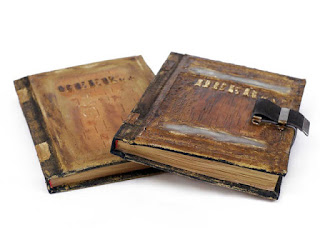в поэзии так много лет называют октаву и терцет
Глава 5. Строфика
Рассматриваемые понятия: строфа, астрофические стихи, моностих, александрийский и элегический дистих, терцет, терцина, ритурнель, катрен, квинтет, секстет, секстина, септима, октава, сицилиана, триолет, нона, спенсерова строфа, децима, рондо, «онегинская строфа».
«ВНЯВ ПЕНЬЮ СЛАДКОЗВУЧНЫХ СТРОФ…»
Тоской и рифмами томим,
Бродя над озером моим,
Пугаю стадо диких уток:
Вняв пенью сладкозвучных строф,
Они слетают с берегов.
А.Пушкин «Евгений Онегин»
Свою характеристику строфе дал поэт А.Вознесенский в статье «Структура гармонии. Ответ критику Адольфу Урбану»: «Строфа – модель мира, гармонический кристалл». Если вдуматься в это определение, не так уж оно и странно, ведь любое поэтическое произведение – это отдельный мир, и строфа – важнейшая его составляющая, как молекула или, действительно, кристалл.
Закономерности соединения стихов в строфы, виды строф и их историю изучает раздел науки о языке, называемый СТРОФИКОЙ.
Надо отметить, что некоторые поэтические произведения не делятся на строфы, в таком случае говорят, что у них астрофическое построение.
Одна строфа. Но сколько смысла в ней,
Какая власть магического слова!
Алла Кобаидзе
Мы начинаем знакомство со строфами с самой маленькой, состоящей всего лишь из одной строки. Да-да, есть и такие строфы, ставшие самостоятельными стихами.
В истории русской поэзии одностишия уже встречались
у Н.Карамзина («Покойся, милый прах, до радостного утра»),
у В.Брюсова («О, закрой свои бледные ноги. »).
Лев Дуров (актёр, режиссёр): «Я негодяй, но вас предупреждаю!»
Михаил Мамчич: «Будили зверя, а проснулся скунс…»
Особенно плодовит современный сатирик Владимир Вишневский. Вот его грустные перлы:
«И вновь я не замечен с Мавзолея. »
«Тебя сейчас послать или по факсу?»
«Ну, это я при жизни был весёлым…»
С разрешения автора добавляю к примерам одностишия остроумного и талантливого Рефата Шакир-Алиева:
— «Мечтами накормить народ не трудно»
— «Испортить славой солнце невозможно».
А также моностихи Александра Чашева (сайт Проза.ру)с очень современным звучанием:
— «Мой контент в тумане светит».
— «Мне твой емейл милее прочих».
— «Не мог он Яндекс от Google с Mail, как мы ни бились, отличить».
Сорокалетье — вот рубеж извечный:
Попутный ветер был — теперь он встречный.
Два двустишия шестистопного ямба с парной рифмовкой образуют
АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ СТИХ. Название произошло от старофранцузской обработки в XII веке писания об Александре Македонском. В первом двустишии должна быть женская рифма, во втором – мужская, что не всегда поэтами соблюдается. Эту форму стиха воспел П.Вяземский, друг А.Пушкина:
Я, признаюсь, люблю мой стих александрийский,
Ложится хорошо в него язык российский…
Александрийским стихом написан шедевр Пушкина «Редеет облаков летучая гряда…».
Современные поэты тоже используют дистихи, например ироничный Игорь Губерман:
Увы, подковой счастья моего
Кого-то подковали не того.
Многие двустишия служат той же цели, что и афоризмы: заканчивая произведение, подводят итог размышлениям автора, как в замечательном верлибре Евгения Винокурова. Не могу не привести его полностью:
Но мальчик, прочитавший моё стихотворение,
Взглянет на мир моими глазами. («Моими глазами»)
Первооткрывателем русского терцета считал себя К.Бальмонт:
Она, как русалка, воздушна и странно бледна,
В глазах у неё, ускользая, играет волна,
В зелёных глазах у неё глубина – холодна.
Так написана «Божественная комедия» Данте, который опирался на мистическую магию чисел: он посвятил поэму божественной троичности (Богу-отцу, Богу-сыну, Святому духу), в поэме три сферы: «Ад», «Чистилище», «Рай», и в каждой сфере девять кругов…Отсюда и построение строфы.
Метафорически ярко характеризует терцины поэт начала ХХ века К.Фофанов:
В созвучии тройном, как в блеске ожерелья,
Терцина скользкая и вьётся и ползёт,
Как горная змея из тёмного ущелья.
(«Терцина»)
Действительно, виртуозное построение оригинальной рифмовки создаёт прихотливую и в то же время строгую композицию всего произведения. Сложная, необычная рифмовка в терцинах В.Ходасевича из книги «Путём зерна» (1918):
Сладко после дождя тёплая пахнет ночь.
Быстро месяц бежит в прорезях беглых туч.
Где-то в сырой траве часто кричит дергач.
Вот к лукавым губам губы впервые льнут:
Вот, коснувшись тебя, руки мои дрожат…
Минуло с той поры только шестнадцать лет.
Ещё один вид трёхстиший – РИТУРНЕЛЬ, сочетание двух зарифмованных и одного холостого стиха. Восходит к итальянской народной поэзии. Эту строфу мы видим в стихотворении Н.Гумилёва «Сказка», посвящённом Тэффи.
А вот как оригинально звучит ритурнель В.Брюсова:
Серо
Море в тумане, и реет в нём рея ли, крест ли;
Лодка уходит, которой я ждал с такой верой!
Прежде
К счастью так думал уплыть я. Но подняли якорь
Раньше, меня покидая…Нет места надежде!
Кровью
Хлынет закат, глянет солнце, как алое сердце:
Жить мне в пустыне – умершей любовью!
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить. (Ф.Тютчев)
5. ПЯТИСТИШИЕ (квинтет) – строфа из пяти строк, где чаще всего рифмуются между собой первый, третий и четвёртый стихи, а второй – с пятым по схеме АБААБ:
В последний раз твой образ милый
Дерзаю мысленно ласкать,
Будить мечту сердечной силой
И с негой робкой и унылой
Твою любовь воспоминать. (А.Пушкин)
Если вы захотите проанализировать другие стихи, подскажу: пятистишиями написаны: «Прощание» А.Пушкина, «Царское Село» О.Мандельштама, «Персидские мотивы» С.Есенина, «Зима» Ф.Тютчева.
6. ШЕСТИСТИШИЕ (секстет) любили Ф.Тютчев («Silentium»), А.Пушкин («Зимнее утро», «Труд», «Обвал», «Песнь о вещем Олеге»), М.Лермонтов («Три пальмы», «Родина»), использовали и другие поэты, например:
Вчера, гуляя у ручья,
Я думала: вся жизнь моя –
Лишь шалости и шутки.
И под журчание струи
Я в косы длинные свои
Вплетала незабудки.
(Мирра Лохвицкая «Среди цветов»)
Система тройной рифмовки в шестистишии называется ТЕРНАРНОЙ РИФМОЙ:
Нет, не жди ты песни страстной,
Эти звуки – бред неясный,
Томный звук струны;
Но, полны тоскливой муки,
Навевают эти звуки
Ласковые сны. (А.Фет)
В английской поэзии великий реформатор XIV века Дж.Чосер, который ввёл вместо силлабического стиха силлабо-тонический, с рифмами, тоже любил шестистишие. Чосеровскую строфу стали называть королевской, так как, подражая ему, так же писал стихи король Яков Шотландский.
Гармонии стиха божественные тайны
Не думай разгадать по книгам мудрецов:
У брега сонных вод, один бродя, случайно,
Прислушайся душой к шептанью тростников,
Дубравы говору; их звук необычайный
Прочувствуй и пойми…В созвучии стихов
Невольно с уст твоих размерные октавы
Польются, звучные, как музыка дубравы.
Октава родилась в итальянской поэзии эпохи Возрождения. Пушкин дал блестящие примеры лирических октав в «Осени», в «19 октября» (1825г). Чтобы по достоинству оценить своеобразие и богатство этой строфы, обратимся к его поэме «Домик в Коломне», начинающейся с шутливого признания:
Четырёхстопный ямб мне надоел:
Им пишет всякий. Мальчикам в забаву
Пора б его оставить. Я хотел
Давным-давно приняться за октаву.
А в самом деле: я бы совладел
С тройным созвучием. Пущусь на славу!
Ведь рифмы запросто со мной живут;
Две придут сами, третью приведут.
В пятой строфе поэмы есть ещё одно знаменательное признание:
Как весело стихи свои вести
Под цифрами, в порядке, строй за строем,
Не позволять им в сторону брести,
Как войску, в пух рассыпанному боем!
Тут каждый слог замечен и в чести,
Тут каждый стих глядит себе героем,
А стихотворец…с кем же равен он?
Он Тамерлан иль сам Наполеон.
Вот как ценит поэт стихотворца, овладевшего поэтическим мастерством: сравнивает его с великими полководцами.
Разновидности восьмистиший – СИЦИЛИАНА и ТРИОЛЕТ.
Май жестокий с белыми ночами!
Вечный стук в ворота: выходи!
Голубая дымка за плечами,
Неизвестность, гибель впереди!
Женщины с безумными очами,
С вечно смятой розой на груди! –
Пробудись! Пронзи меня мечами,
От страстей моих освободи! (1908 г.)
Подобная строфа и в стихотворении Ф.Тютчева «Вечер мглистый».
Триолет возник в средневековой итальянской и французской поэзии, в Россию пришёл с Н.Карамзиным в XVIII веке, пережил бум «серебряного века».
Советский поэт Владимир Пяст, назвав своё произведение «Поэмой в нонах», пишет:
Но я обычным здесь не подчинюсь законам
И дерзкие стихи расположу по нонам.
Иногда нону называют спенсеровой строфой в честь английского поэта Эдмунда Спенсера, написавшего нонами поэму «Королева фей». Спенсеровой строфой Байрон описывал своего героя и его путешествия в «Паломничестве Чайльд-Гарольда».
Использовал нону М.Лермонтов:
Отворите мне темницу,
Дайте мне сиянье дня,
Черноглазую девицу,
Черногривого коня.
Дайте раз по синю полю
Проскакать на том коне;
Дайте раз на жизнь и волю,
Как на чуждую мне долю,
Посмотреть поближе мне.
Обращались к этой строфе К.Батюшков («Песнь Гаральда Смелого»), Ф.Тютчев («Море и утёс»), И.Бродский («Декабрь во Флоренции»).
Гляжу на будущность с боязнью,
Гляжу на прошлое с тоской
И, как преступник перед казнью,
Ищу кругом души родной;
Придёт ли вестник избавленья
Открыть мне жизни назначенье,
Цель упований и страстей,
Поведать – что мне бог готовил,
Зачем так горько прекословил
Надеждам юности моей.
Различают три формы десятистиший: децима, одическая строфа, «безголовый сонет». Необычную и выразительную форму децимы создал И. Северянин в стихотворении, посвящённом памяти Н.Некрасова:
Помните вечно заветы почившего,
К свету и правде Россию будившего,
Страстно рыдавшего,
Тяжко страдавшего
С гнётом в борьбе.
Сеятель, зёрна взошли светозарные:
Граждане, вечно тебе благодарные,
Живы заветами,
Солнцу обетами!
Слава тебе!
ОДИЧЕСКАЯ СТРОФА употреблялась в торжественных одах.
Десятистишие встретим также в стихах А.Пушкина («Бородинская годовщина»), А.Майкова («Художник»), М.Лермонтова («Наполеон»), Ф.Тютчева («Окончен пир…»).
11. ОДИННАДЦАТИСТИШИЕ встречается ещё реже. И всё-таки мы найдём эту строфу у А.Пушкина в известном стихотворении 1821 года: «Гречанка верная! не плачь – он пал героем!»
Одиннадцатистишия любил М.Лермонтов, он использовал их в поэме «Сашка», в «Сказках для детей». А ещё разработал необычную форму этой строфы в стихотворении «Поле Бородина», она до сих пор вызывает восхищение и у поэтов, и у теоретиков стиха и не имеет аналогов.
12. ДВЕНАДЦАТИСТИШИЕ использовал Г.Державин в «Одическом послании», В.Жуковский в балладах и сказочных поэмах («Громобой», «Жалоба Цереры»).
13. ТРИНАДЦАТИСТИШИЕ встретим в стихах классиков: у И.Бунина («Бальдер»), М.Лермонтова («А.Г.Хомутовой»), у Ф.Тютчева в переводе поэмы И.Цейдлица «Байрон».
Вот рондо М.Кузмина:
В начале лета, юностью одета,
Земля не ждёт весеннего привета,
Не бережёт погожих, тёплых дней,
Но, расточительная, всё пышней,
Она цветёт, лобзанием согрета.
И ей не страшно, что далёко где-то
Конец таится радостных лучей,
И что не даром плакал соловей
В начале лета.
Не так осенней нежности примета:
Как набожный скупец, улыбки света
Она сбирает жадно, перед ней
Не долог путь до комнатных огней,
И не найти вернейшего обета
В начале лета.
Валентина Юрьева 50
Рондель
Живёт мой друг в плену видений
Абстрактных призрачных картин,
Где он с подругой! Не один!
Она покорна, вне сомнений,
Почти рабыня. бродит тенью
И ждёт, что скажет Господин!
Живёт мой друг в плену видений.
14. ЧЕТЫРНАДЦАТИСТИШИЕ известно в двух формах:
1) «онегинская строфа»,
2) сонет.
Особое место в русской поэзии занимает оригинальная строфа, которую создал А.С.Пушкин для романа «Евгений Онегин». Она соблюдается на протяжении всего произведения и называется «ОНЕГИНСКАЯ СТРОФА». Состоит из 14 строк с искусной рифмовкой: в первом четверостишии перекрёстная рифмовка: АБАБ
во втором – рифма смежная (парная): ВВГГ
в третьем – кольцевая (опоясывающая): ДЕЕД
заключительное двустишие: ЖЖ
«Онегинская строфа» отличается необычайным богатством, цельностью и в то же время гибкостью, что дало возможность поэту свободно и выразительно передавать любые оттенки чувств, раздумья о жизни и творчестве.
Восхищаясь Пушкиным, учась у него, М.Лермонтов, используя эту строфу, написал поэму «Тамбовская казначейша.
Ну, а сонет как жанр будет рассмотрен в отдельной главе.
В поэзии так много лет называют октаву и терцет
О, белизна бумажного листа!
Она источник жажды окаянной,
Манящий образ женщины желанной,
В ночи осенней яркая звезда!
Себя другим в угоду не иначь.
Души от ветра времени не прячь,
Чтобы ее как факел раздувало.
Ты ль с подружкою своею
Розно? К нам судьба равна:
Врозь я с горлинкой моею.
Верю я душою всею,
Коль твоя любовь верна:
Поспешу во след за нею.
Слух твой жалобой лелею
Вновь, что нам двоим дана:
Врозь я с горлинкой моею.
Без ее красы жалею
Все, чем жизнь была красна.
Поспешу во след за нею.
Смерть, верши свою затею,
То возьми, что взять должна:
Врозь я с горлинкой моею,
Славы мне уже не надо,
Не желаю я побед.
А хочу одной награды —
Возвращенья прежних лет
Мира, счастья и отрады.
Перестал бы я сгорать
От тоски, когда б опять
Было мне дано судьбою
В прошлое уйти мечтою
И грядущего не ждать.
Но бесплодно и напрасно
Снисхождения просить
Тщусь я у судьбы бесстрастной:
То, что было, воскресить
И она сама не властна.
Не воротишь время вспять,
Как нельзя и обогнать
Ход событий непреложный:
Отвратить их невозможно
Иль заране угадать.
Дашь ли быть самим собою, дарованьем и мольбою,
Скромностью и похвальбою, жертвою и палачом?
Не встававший на колени — стану ль ждать чужих молений?
Не прощавший оскорблений — буду ль гордыми прощен?!
Тот, в чьем сердце — ад пустыни, в море бедствий не остынет,
Раскаленная гордыня служит сильному плащом.
Я любовью чернооких, упоеньем битв жестоких,
Солнцем, вставшим на востоке, безнадежно обольщен.
Только мне — влюбленный шепот, только мне — далекий топот,
Уходящей жизни опыт — только мне. Кому ж еще?!
Рука и взгляд его тверды, —
Не трепетали пред пальбою.
Она поёт: «Аллаверды, Аллаверды —
Господь с тобою».
И ей не страшно, что далёко где-то
Конец таится радостных лучей,
И что не даром плакал соловей
В начале лета.
Давни с моей душой сроднилась эта лень,
Как ветер с осенью угрюмой и унылой,
Как взгляд влюбленного с приветным взглядом милой,
Как с бором вековым таинственная тень;
Она гнетет меня и каждый божий день
Овладевает мной все с новой, с новой силой.
Порою сердце вдруг забьется прежней силой;
Порой спадут с души могильный сон и лень;
Сквозь ночи вечныя проглянет светлый день:
Я оживу на миг и песнею унылой
Стараюсь разогнать докучливую тень,
Но краток этот миг, нечаянный и милый…
Куда ж сокрылись вы, дни молодости милой,
Когда кипела жизнь неукротимой силой,
Когда печаль и грусть скользили, словно тень,
По сердцу юному, и тягостная лень
Еще не гнездилась в душе моей унылой,
И новым красным днем сменялся красный день?
Увы. Пришел и он, тот незабвенный день,
День расставания с былою жизнью милой…
По морю жизни я, усталый и унылый,
Плыву… меня волна неведомою силой
Несет — Бог весть куда, а только плыть мне лень,
И все вокруг меня — густая мгла и тень.
В пустыне мира зыбко-жгучей,
Где мир — мираж, влюбилась ты
В неразрешенность разнозвучий
И в беспокойные цветы.
Неощутима и незрима,
Ты нас томишь, боготворима,
В просветы бледные сквозя,
Так неотвязно, неотдумно,
Что, полюбив тебя, нельзя
Не полюбить тебя безумно.
(сонет «Поэзия», И. Анненский)
Танага — в традиционной филиппинской поэзии стихотворение (твёрдая форма), состоящее из четырёх стихов семисложника с рифмовкой aaaa. С 1980-х годов группа пропагандистов филиппинской культуры во главе с Вимом Надерой предпринимает небезуспешные попытки возрождения этой формы, как на аутентичном тагальском языке, так и на английском и других западных языках.
Танка (яп. 短歌 «короткая песня») — 31-слоговая пятистрочная японская стихотворная форма (основной вид японской феодальной лирической поэзии), являющаяся разновидностью жанра вака (яп. 和歌 «песни Ямато»). Истоки танка — в народных преданиях и устной поэзии эпохи родового строя. В настоящее время танка культивируется как основная форма японской национальной поэзии. Схема слогов по строкам: 5-7-5-7-7. Поэт Цураюки (IX — нач. X вв.) даёт определение танка, как поэзии «корни которой — в человеческом сердце». Танка не имеет рифм.
В глубине в горах
топчет красный клёна лист
стонущий олень
слышу плач его. во мне
вся осенняя печаль.
(Сарумару-даю)
Составленное по этой форме стихотворение может содержать до 50 или 100 строчек, и в этом случае оно называется тёка (яп. «длинная песня») или нагаута, но большинство японских танка состоит из пяти строк. Для танки и хайку (хокку) важна специфика национального самосознания и видения мира, иначе они звучат поддельно. Таковы поэтические циклы в жанрах японской лирики, появившиеся на рубеже веков (Вяч. Иванов, В. Брюссов, А. Белый). Эпитафией крупнейшего японского поэта нашего века Исикавы Такубоку стала его самая известная танка:
На северном берегу,
Где ветер, дыша прибоем,
Летит над грядою гор,
Цветёшь ли ты, как бывало,
Шиповник, и в этом году.
(пер. Веры Марковой)
Пронзительные горькие строки; ненавязчивая, но очевидная антитеза вечной жизни природы и краткость человеческого существования заключена в этих скупых строках. Это и есть истинная танка.
Терцина — стихотворение, написанное терцетами с особой рифмовкой и завершающим отдельно стоящим стихом. Схема рифмовки: aba bcb cdc … xyx yzy z. Волнообразный перехлест рифмовки придает стихотворению, написанному терцинами, особый колорит. Частный случай рифмовки aba bcb cac aba… хорошо подходит стихотворениям с рефренами. Терцинами Данте Алигьери написал свою «Божественную Комедию». Вообще, законченное произведение (поэма или крупное стихотворение), написанное терцинами, называется капитоло. В «Божественной комедии» капитоло является каждая отдельная глава поэмы.
Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.
Возмездия настанет миг,
И наша пуля цель найдёт —
Палач, настигнутый, падёт.
Возмездия настанет миг!
Тот спор суровый не утих,
В нас гнев негаснущий живёт.
Возмездия настанет миг,
И наша пуля цель найдёт.
(Пер. Музы Павловой)
Ха́йку (яп. 俳句) — жанр традиционной японской лирической поэзии вака, известный с XIV века. В самостоятельный жанр эта поэзия, носившая тогда название хокку, выделилась в XVI веке; современное название было предложено в XIX веке поэтом Масаока Сики. Один из самых известных представителей жанра Мацуо Басё. Оригинальное японское хайку состоит из 17 слогов, составляющих один столбец иероглифов (впрочем, уже у Басё встречаются отступления от нормы слогового состава), записанных в один столбец. Особыми разделительными словами — кирэдзи (яп. «режущее слово») — текст хайку делится в отношении 12:5 — либо на 5-м слоге, либо на 12-м. При переводе хайку на западные языки — с самого начала XX века, когда такой перевод начал происходить, — местам возможного появления кирэдзи соответствует разрыв строки и хайку записываются как трёхстишия. В 1970-е гг. американский переводчик хайку Хироаки Сато предложил записывать переводы хайку как моностихи; вслед за ним канадский поэт и теоретик Кларенс Мацуо-Аллар заявил, что и оригинальные хайку, создаваемые на западных языках, должны быть однострочными. Крайне редко встречаются — среди переводных и оригинальных хайку — и двустрочные тексты, тяготеющие к слоговой пропорции 2:1. Слоговой состав хайку 17-сложник по схеме: 5—7—5. Единая слоговая мера для хайку на разных языках невозможна, потому что языки значительно отличаются друг от друга средней длиной слов и, следовательно, информационной ёмкостью одинакового количества слогов. Современные хайку, написанные на европейских языках, обычно короче 17-ти слогов (особенно англоязычные), тогда как русские хайку могут быть даже длиннее.
В классическом хайку центральное место занимает природный образ, явно или неявно соотнесённый с жизнью человека. Должно быть указание на время года — для этого обязательно используется киго — «сезонное слово». Хайку пишут только в настоящем времени: автор записывает свои непосредственные впечатления от только что увиденного или услышанного. Традиционное хайку не имеет названия и не пользуется рифмой, однако, есть ряд специфических приёмов японской национальной традиции. Искусство написания хайку — это умение в трех строках описать момент. Каждое слово, каждый образ на счету, они приобретают особую весомость, значимость. Сказать много, используя лишь немного слов, — главный принцип хайку. В сборниках хайку каждое стихотворение часто печатается на отдельной странице. Это делается для того, чтобы читатель мог вдумчиво, не торопясь, проникнуться атмосферой стихотворения. Хайку демократизировала японскую поэзию, освободив поэтическое творчество от свода правил и влияния героического и придворного эпоса. Поскольку хайку были новым явлением, не было ещё никаких канонических школ, и авторы хайку были намного свободнее в своём творческом поиске, чем поэты, писавшие пятистишия. Хайку как бы спустила творчество вниз по социальной лестнице, сделав его доступным тем, кто не входил в высшие сословие. Это была настоящая демократическая революция в искусстве.
На голой ветке / ворон сидит одиноко. / Осенний вечер.
(Мацуо Басё, пер. В. Марковой)
Не зыблется лёгкая дымка. / Сон затуманил глаза.
(Мукаи Кёрай, пер. В. Марковой)
Всё глазел на них, / сакуры цветы, пока / шею не свело.
(Нисияма Соин, пер. Д. Смирнова)
Хуан Рамон Хименес о хайку: «Чем же нас так привлекает это бессмертное искусство слагать стихи из нескольких строк, дошедшее к нам из глубины веков, эта магия немногословности: простотой слова, концентрацией мысли, глубиной воображения или своей душой?».
Тем, кто волшебством моим пленен. Заметки о сонете
О ЖАНРЕ И ПРОИСХОЖДЕНИИ СОНЕТА
Сонетом (от итальянского „sonette“) именуется краткое (из 14 стихов) лироэпическое произведение строгой фиксированной формы, состоящее из октавы и секстета, или, иначе, из двух катренов (четверостиший) и двух терцетов (трехстиший), связанных как особой системой рифмовки, так и общей магистральной идеей всего стихотворения. Шедевр твердых стихотворных форм, сонет в идеале представляет собой сплав лирики с логикой и призван не просто удовлетворить чувство прекрасного, но и сказать некое новое слово в дискурсе человеческого бытия. Вследствие логической завершенности сонета, а также его заостренного и риторического характера, в европейских литературах прошлых веков он считался разновидностью литературной эпиграммы.
Принято считать, что форму сонета изобрел в первой половине XIII века сицилийский поэт Джакомо да Лентини, служивший нотариусом при дворе императора Фридриха II Гогенштауфена. Вот сонет Лентини – один из первых сонетов в мировой литературе:
Виденье легкость шага мне дает,
Виденье дивное надежды множит,
Виденье утешать не устает –
Виденье чудное, что ум тревожит.
Виденье той, что свет лучистый льет,
В уста виденье смех смятенный вложит;
О том виденье говорит народ:
Виденья нет, что с ним сравниться может.
Кто зрел столь дивные глаза в виденье,
Глаза, в чьих взорах жжет любовь, пылая,
Уста, чей сладкий смех несет смятенье?
С ней говорю – с ней рядом умираю,
И мнится, к раю близко восхожденье;
Всех выше любящих себя считаю.
Сонет возникает из концепции, одной строки-мысли и двух рифм. Вначале создается первый катрен – экспозиция. Продуманно подбираются рифмы с тем расчетом, чтобы в языке нашлись подходящие по смыслу слова. Рифмы в сонете должны быть по возможности простыми, точными и звучными, соответствующими изначальному смыслу слова «сонет», произведенному от итальянского „sonare“ – «звучать, звенеть». Затем пишется второй катрен, логически вытекающий из первого и заполняющий собой пространство уже готовых рифм. Затем ход рассуждения вызывает к жизни первый терцет – рифмы в нем уже другие, как правило, отличные от рифм в катренах. Необходимо также помнить о правиле альтернанса, т.е. о чередовании мужских и женских клаузул: это означает, что если октава во втором катрене заканчивается женской рифмой, то секстет в его первом терцете лучше начать с мужской, и наоборот. И, наконец, заключительный стих сонета – завершающий аккорд, так называемый «сонетный замок»: желательно, чтобы в нем содержалась некая афористически выраженная мысль, которая подытоживала бы все сказанное выше и придавала целому как формальную законченность, так и своего рода идейную завершенность.
Альтернанс мужских и женских рифм в русском классическом сонете выступает как атрибут отечественной поэтической традиции. Исключением являются переводы итальянских сонетов со сплошными женскими клаузулами, воссоздающими систему рифм оригинала. По той же причине сплошные мужские клаузулы возможны в переводах английских сонетов. Что же касается видов рифм, то, в то время как в секстете возможны и даже желательны все три вида – опоясывающие, перекрестные и смежные, в октаве могут быть только первые два. Смежные рифмы в октаве нежелательны, поскольку разрушают внутреннее формальное единство катренов. Из двух видов рифм в октаве предпочтительнее первый, т.е. опоясывающие, ибо он обеспечивает больший эффект неожиданности. Всего изящнее выглядит тип сонета с опоясывающими равнозвучными рифмами в октаве, а в секстете имеющий либо две смежных рифмы и одну опоясывающую, либо одну смежную рифму и две перекрестных, – так называемый «французский» сонет.
1. Схема рифмовки: aBBa/aBBa/CCd/EEd.
Скорей погаснет в небе звездный хор
И станет море каменной пустыней,
Скорей не будет солнца в тверди синей,
Не озарит луна земной простор;
Скорей падут громады снежных гор,
Мир обратится в хаос форм и линий,
Чем назову я рыжую богиней
Иль к синеокой преклоню свой взор.
Я и в гробу, холодный и безгласный,
Не позабуду этот блеск прекрасный
Двух карих глаз, двух солнц души моей.
(Пьер де Ронсар, перевод В. Левика)
2. Схема рифмовки: aBBa/aBBa/CCd/EdE.
Ты помнишь, Лагеи, я собирался в Рим,
И ты мне говорил (мы у тебя сидели):
«Запомни, Дю Белле, каким ты был доселе,
Каким уходишь ты, и воротись таким».
И вот вернулся я – таким же, не другим.
Лишь то, что волосы немного поседели,
Да чаще хмурю бровь, и дальше стал от цели,
И только мучаюсь, все мучаюсь одним.
Одно грызет меня и гложет сожаленье.
Не думай, я не вор, не грешен в преступленье.
Но сам обрек себя на трехгодичный плен,
Сам обманул себя надеждою напрасной
И растерял себя из жажды перемен,
Когда уехал в Рим из Франции прекрасной.
(Жоашен Дю Белле, перевод В. Левика)
Существует также тип «итальянского» сонета, в котором – в его классическом варианте – система рифм в секстете напоминает «лесенку»: ABBA/ABBA/CDE/CDE:
Соблазны света от меня сокрыли
На Божье созерцанье данный срок, –
И я души не только не сберег,
Но мне паденья сладостней лишь были.
Слеп к знаменьям, что стольких умудрили,
Безумец, поздно понял я урок.
Надежды нет! – Но если б ты помог,
Чтоб думы себялюбие избыли!
Сравняй же путь к небесной высоте,
Затем что без тебя мне не по силам
Преодолеть последний перевал;
Внуши мне ярость к миру, к суете,
Чтоб недоступен зовам, прежде милым,
Я в смертном часе вечной жизни ждал.
(Микеланджело, перевод А. Эфроса)
Помимо этого, в секстетах сонетов, могущих принадлежать к самым различным видам, встречается распространенная схема вереницы сдвоенных клаузул по типу CD/CD/CD:
Глас моего твердит мне отраженья,
Что дух устал, что изменилось тело,
Что сила, как и ловкость, ослабела;
Исчез обман: старик ты, нет сомненья.
Природа требует повиновенья;
Бороться ль? – время силу одолело
Быстрей воды, гасящей пламень смело;
За долгим тяжким сном – час пробужденья.
Мне ясно: улетает жизнь людская,
Что только раз дана, свежа и здрава:
А в глуби сердца речь внятна живая –
Той, что, теперь вне смертного состава,
Жила, единственная, столь сияя,
Что, мнится, всех других померкла слава.
(Петрарка, перевод Ю. Верховского)
Во всех перечисленных нами типах сонетной рифмовки в катренах легко представимы и перекрестные рифмы, а не только опоясывающие: все зависит от хода развития темы, которая и диктует рифмы, не всегда повинуясь стремлению поэта соблюсти строгий формальный канон. Также очень изящно выглядит смешанная система рифмовки катренов, при которой перекрестные рифмы первого переходят затем в опоясывающие во втором. Мы воздержимся здесь от приведения соответствующих образцов, чтобы чрезмерно не удлинять данный раздел статьи. Sapienti sat.
О СТИХОТВОРНОМ РАЗМЕРЕ СОНЕТА
Каковы основные требования, предъявляемые к стиху сонета? Я бы назвал следующие: простота; размеренность; лаконизм; целостность; спокойствие; насыщенность; напевность.
Среди пяти традиционно общеупотребительных в европейской поэтике стихотворных размеров, – ямба, хорея, дактиля, амфибрахия и анапеста, – следует особо выделить ямб.
Как мне кажется, ни один из трехдольных размеров для сонета не подходит. Я умышленно говорю «трехдольный», а не «трехстопный», употребляя термин, принятый в теории музыки. Стихи, написанные такими размерами, удобно перекладывать на музыку и танцевать под нее вальс. Но, хотя сонеты порой действительно сочиняются в трехстопных размерах и в самом деле кладутся на музыку, но все же сонет – это не вальс. Сонет – это четырнадцатистрочный научный труд, краткая, но предельно точная теоретическая статья или даже диссертация, в которой пребывают в гармоническом единстве лирическое и интеллектуальное начала. Поэтому из сонета может получиться прекрасный многоголосый хорал, но танец – едва ли.
Простак-хорей – тоже размер из породы танцевальных, а точнее – плясовых. Ему так же недостает спокойствия и размеренности. Он хорошо подходит для эпиграммы, – недаром же четырехстопный хорей – любимый размер народных частушек. Пятистопный хорей – уже несколько серьезнее, чем его более лаконичный собрат, – однако из-за ритмического акцента на первой стопе, и затем еще одного – на последней, стихи пятистопного хорея как бы обособляются один от другого, вследствие чего нарушается принцип целостности всего произведения. И это – также существенный недостаток.
Из трех разновидностей ямба, могущего быть, как известно, четырех-, пяти- и шестистопным, четырехстопный ямб отвечает всем упомянутым выше требованиям, за исключением одного: он лишен насыщенности. В его четырех стопах так же тесно, как в четырех стенах. Там, где в нескольких строчках порой умещается полжизни, а иногда и вся, лишнее пространство отнюдь не помешало бы.
Также лишь пяти требованиям из шести отвечает и ямб шестистопный, именуемый еще александрийским стихом. Правда, в нем чуть меньше лаконизма и чуть больше насыщенности. Но его шесть стоп, разделяясь строго посредине, неизбежно вызывают к жизни отчетливую цезуру, которая лишает стих необходимой цельности и снимает половину силы и выразительности концевых рифм. Сам текст сонета при этом как бы разламывается по вертикали на две части. И это также существенный изъян.
Парижа я люблю осенний, строгий плен,
И пятна ржавые сбежавшей позолоты,
И небо серое, и веток переплеты –
Чернильно-синие, как нити темных вен.
Поток всё тех же лиц, – одних без перемен,
Дыханье тяжкое прерывистой работы,
И жизни будничной крикливые заботы,
И зелень черную и дымный камень стен.
Мосты, где рельсами ряды домов разъяты,
И дым от поезда клоками белой ваты,
И из-за крыш и труб – сквозь дождь издалека
Большое Колесо и Башня-великанша,
И ветер рвет огни и гонит облака
С пустынных отмелей дождливого Ла-Манша.
У шестистопного ямба имеется еще один недостаток, который может порой оказать поэту медвежью услугу: в ряде случаев он практически тождествен несонетному стихотворному размеру народной русской поэзии, именуемому четырехдольником или пэоном. Так, в приведенном выше образце Волошина настоящих ямбических стихов, в сущности, всего пять: 1, 5, 11, 12 и 13-й. Все остальные его стихи, строго говоря, представляют собой примеры четвертого пэона, построенные таким образом, что после шестой стопы в них имеется подобие цезуры, вообще-то пэонам не свойственной, из-за чего их можно с полным правом отнести также и к александрийским стихам. Гораздо хуже бывает в тех случаях, когда такой цезуры нет, но на месте ее оказывается слово, на которое и приходится водораздел между шестой и седьмой стопами. Причем, как часто случается, поэт этого не замечает, особенно если он не очень сведущ в теории стиха или вообще является начинающим автором, не различающим подобных тонкостей.
И все же шестистопный ямб замечательно подходит для сонета. Он уступает только пятистопному, который один отвечает всем требованиям, названным выше. Таким образом, этот вид ямба, будучи некой «золотой серединой», может по праву считаться лучшим стихотворным размером сонета.
Характерным свойством пятистопного ямба является наличие в нем двух главных метрических акцентов – на второй и на пятой стопе. Поэтому можно достичь особой выразительности стиха, если приложить усилия к тому, чтобы эти акценты совпадали со словами, несущими в стихе основную смысловую нагрузку. Вот два примера этому из классиков:
Те сонеты, в которых данный принцип соблюдается, как правило, поражают своей законченностью и стройностью. Таков обычный результат умелого и правильного использования метра.
Четырехстопный ямб главных метрических акцентов не имеет – в нем все четыре равны. Шестистопный имеет их четыре: на первой, третьей, четвертой и шестой стопах. Наличие в русском языке громоздких и неудобных слов, имеющих от четырех слогов и более, может создавать трудности из-за неизбежного несовпадения главных акцентов стиха с ударениями в этих словах, порождающего спондеи и пиррихии как элементы неблагозвучности. И здесь на выручку поэту приходит все тот же пятистопный ямб, в котором между акцентами в стихе имеются трехсложный и пятисложный интервалы. Стоит только пустить в ход немного изобретательности, – и любому длинному и неудобному слову можно найти подобающее место.
Эй, жизнь моя. Молчание ответом?
Вот все, что я оставил за собою,
А краткий век мой, загнанный судьбою,
Исчез из глаз, и путь его неведом.
Ушли года, ушло здоровье следом,
И проглядел я их за суетою.
И жизни нет, одно пережитое,
Как нет и сил сопротивляться бедам.
Вчера прошло, а Завтра не настало,
Мое Сегодня мимолетней взгляда,
И то, чем был я, быть уже устало.
Вчера, сегодня, завтра… Та триада,
Что из пеленок саван мне сметала
В тягучей повседневности распада.
(Ф. де Кеведо, «Вспомни ничтожность прожитого и призрачность пережитого». Перевод А. Гелескула)
Поэт Иоганнес Бехер в своей работе «Философия сонета, или Малое наставление по сонету» говорит: «В сонете содержанием является закон движения жизни, состоящий из положения, противоположения и развязки в заключении, или из тезы, антитезы и синтеза. Схематически это можно определить так: положение, или теза, развивается в первом катрене; на него отвечает во втором катрене противоположение, или антитеза; заключение, или синтез, развивается в двух терцетах. Однако в чистом виде эта тема лишь редко встречается в сонете. Она бесконечно варьируется, но вместе с тем, если сонет претендует на то, чтобы считаться сонетом, полностью исключить ее тоже нельзя».
В современной поэтической практике известны два основных типа сонета. Первый – это редкий случай классического эталонного сонета с тезой, антитезой и синтезом; пространственно это пирамида или конус. Второй – это намного чаще встречающийся тип стихотворения с экспозицией в первом катрене, дальнейшим развитием заданной темы во втором катрене, поворотом хода мысли вкупе с началом развязки в первом терцете, – и, наконец, стремительной развязкой, так называемым «сонетным замком», во втором терцете. Пространственно это парабола или радуга.
Вяжу одною цепью два катрена:
Две пары строк в две рифмы облекаю,
Вторую пару первой обрамляю,
Чтобы двойная прозвучала смена.
В двойном трехстишье, вырвавшись из плена,
Уже свободней рифмы расставляю,
Но подвиги, любовь ли прославляю –
Число и строй блюду я неизменно.
Кто мой отверг строфический закон,
Кто счел его бессмысленной игрою,
Тот не войдет в ряды венчанной касты.
Но тем, кто волшебством моим пленен,
Я в тесной форме ширь и глубь открою
И в симметрии сплавлю все контрасты.
(А.-В. Шлегель, «Сонет о сонете». Перевод В. Левика)
В сонете непременно должен присутствовать анализ, пусть даже в минимальном размере. Если же его нет, а есть только повествование или описание, то мы имеем дело не с сонетом, а с подменой или имитацией. Такое стихотворение можно назвать псевдосонетом или четырнадцатистрочником.
Отличие четырнадцатистрочника от подлинного сонета заключается именно в том, что первый является обыкновенным стихотворением, облеченным в форму сонета, но не сонетом по своей сути.
Среди множества сонетных образцов порой можно встретить такие, у которых в катренах нет равнозвучных рифм (по схеме aBaB/cDcD). Данный тип сонета почти всегда может служить опознавательным знаком подмены, поскольку неравнозвучные рифмы в четверостишиях его октавы неопровержимо указывают на техническое бессилие автора, не сумевшего победить и подчинить себе словесный и идейный материал, и поэтому побежденного четырнадцатистрочником. Ибо равнозвучность рифм в катренах сонета – не случайное условие: она есть формальное выражение того, что положение в первом и противоположение во втором диалектически едины и составляют две стороны одного целого, два самостоятельных явления или объекта, объединенных законом действия и противодействия, вследствие чего возникают устойчивость и внутреннее напряжение. Без них становится ненужным и анализ, ибо если нет противоречия, то нечего и примирять. И сонет превращается в подмену так, как это способен сделать только сонет:
Рассыпался чертог из янтаря, –
Из края в край сквозит аллея к дому.
Холодное дыханье сентября
Разносит ветер по саду пустому.
Он заметает листьями фонтан,
Взвевает их, внезапно налетая,
И, точно птиц испуганная стая,
Они кружат среди сухих полян.
Порой к фонтану девушка приходит,
Влача по листьям спущенную шаль,
И подолгу очей с него не сводит.
В ее лице – застывшая печаль,
По целым дням она, как призрак, бродит,
А дни бегут… Им никого не жаль.
(И.А. Бунин, «Забытый фонтан»).
Четырнадцатистрочник – всегда результат поверхностного или дилетантского отношения к сонету. Но так как среди четырнадцатистрочников, – надо отдать им должное, – имеется много замечательных стихотворений, а грань, отделяющая этот вид от строгого сонета, подчас едва различима, то неизбежен вопрос: где же – сонет, и где – его антагонист? Ответить на него бывает нелегко, особенно если перед нами – «Крымские сонеты» Мицкевича или «Сонеты к Орфею» Рильке. И все же, хотя процент подлинных сонетов, по отношению ко всему количеству написанных псевдосонетов, весьма невелик, полностью отказаться от идеальной схемы тоже нельзя, так как именно случаи такого программного отказа привели, например, к полному распаду канонической формы в тех же «Сонетах к Орфею». Вследствие подобного отказа от следования классическому образцу мы вечно будем обречены именовать сонетами такие типичные случаи подмены, как, например, сонет И. Бунина «Северное море»:
Холодный ветер, резкий и упорный,
Кидает нас, и тяжело грести;
Но не могу я взоров отвести
От бурных волн, от их пучины черной.
Они кипят, бушуют и гудят,
В ухабах их, меж зыбкими горами,
Качают чайки острыми крылами
И с воплями над бездною скользят.
И ветер вторит диким завываньем
Их жалобным, но радостным стенаньям,
Потяжелее выбирает вал,
Напрягши грудь, на нем взметает пену
И бьет его о каменную стену
Прибрежных мрачных скал.
О СОНЕТНОЙ ТЕМАТИКЕ
У сонета есть одно характерное свойство, известное всем, кто когда-либо вдумчиво брался за эту форму: он имеет тенденцию все обращать в самого себя. К примеру, поэт выбирает какую-либо тему и решает изложить ее в стихах. Он может написать на эту тему простое стансовое стихотворение, и оно получится либо удачным, либо нет, – но в любом случае оно выйдет обычным лирическим стихотворением. Но если он попытается написать на ту же тему сонет, не забывая при этом о формальных требованиях, то непременно будет изумлен тем, как засверкает выбранная им тема. Придет совершенно иное ее логическое решение, возникнут риторические повороты мысли, появится анализ…
У сонета есть также свойство отбора тематики. Одни темы подходят ему, а другие – нет. В этом случае сонет попросту не получится. Таким образом, он умеет за себя постоять. Но если тема выбрана правильно, то можно удивиться, насколько прекрасно все складывается: плавно развивается повествование, сами собой появляются нужные рифмы, и результат превзойдет все ожидания. Сонет, таким образом, как бы сам диктует поэту свой текст, сам себя сочиняет, и только не нужно ему мешать. Тематика сонетов – дело индивидуальное; но можно сотворить подлинный шедевр из ничего, – а можно и испортить превосходную тему незрелостью мыслей и поэтического мастерства.
Сонет, как ни одно другое литературное произведение, требует абсолютной выдержанности мыслей и чувств. Вдохновение приветствуется, но одного его недостаточно, и оно не всегда оправдывает себя. Сонет – это произведение зрелого духа и зрелой мысли; этот жанр не любит скороспелок. Возьмем так называемое впечатление за исходную точку во времени: если начать сочинять сонет «по свежим следам», то иной раз на его последующее «дозревание» уходит столько же времени, сколько должно «дозреть» само впечатление, давшее ему исходный импульс, чтобы освободиться от всего поверхностного и дать жизнь зрелому произведению, написанному в спокойном состоянии духа.
Сочинить подлинно высокохудожественный сонет способен лишь человек высоких душевных качеств. И наоборот: по качеству сонета можно судить о его авторе. Может быть, поэтому настоящих сонетов относительно немного.
Не множеством картин старинных мастеров
Украсить я всегда желал свою обитель,
Чтоб суеверно им дивился посетитель,
Внимая важному сужденью знатоков.
В простом углу моем, средь медленных трудов,
Одной картины я желал быть вечно зритель,
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш божественный Спаситель –
Она с величием, он с разумом в очах –
Взирали, кроткие, во славе и в лучах,
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона.
Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.
О СОНЕТНОМ НАПОЛНЕНИИ
Сонет – короткое поэтическое произведение, в котором имеется всего лишь четырнадцать строк, и поэтому в нем нет простора для мыслей и рассуждений, как, например, в романе или повести. Но сонет и не требует для себя простора, ибо он предполагает не расширение, но углубление. В тесном сонетном пространстве, ограниченном рамками строгой формы, все без исключения стихи могут и должны быть предельно насыщены содержанием, мыслью, чувством, и стихотворению это пойдет только на пользу. Все зависит от мастерства автора и его желания сделать свое произведение не просто удачным, но – блестящим, а значит – бессмертным.
Хоть и сулит мне вящее желанье
К моим годам года додать не раз, –
Смерть не замедлит шага ни на час;
Чем больше ждешь, тем ближе с ней свиданье.
Да и к чему на счастье упованье,
Раз лишь в скорбях Господь приемлет нас?
Скольженье дней, и все, что тешит глаз,
Тем злостнее, чем ярче их блистанье.
И ежели, мой Боже, я порой
Весь отдаюсь могучему стремленью,
Несущему покой душе моей,
Но собственной ничтожному ценой, –
Дай в тот же миг свершиться вознесенью!
Чем дольше срок, тем пыл к добру слабей.
(Микеланджело, перевод А. Эфроса)
О РАЗНОВИДНОСТЯХ СОНЕТНЫХ ФОРМ
Так называемый «английский», или «шекспировский» сонет, как его именуют из-за того, что этот вид известен нам по сонетам Шекспира, является по сути срединной строфической формой, к которой тяготеют две соседние не-сонетные стансовые формы – стихотворения, составленные из трех и четырех четверостиший, подобно тому как в музыке тяготеют к тонике соседние неустойчивые ступени. Кажется, что довольно прибавить к стихотворению из трех строф двустрочное заключение, или переделать в двустишие четвертую строфу другого, – и сонет готов, по крайней мере – внешне… Однако на деле это не совсем так.
«Английский» сонет – это совершенно независимая, отдельная разновидность строгого сонета, несущая свои особые, именно ей присущие задачи. В этом виде сонета меньше внутреннего напряжения – и больше свободы; меньше опасность сползти в эпигонство и стилизацию – и больше возможностей выразить свои мысли изящно и просто. Между классическим и «шекспировским» сонетами существует некое разделение тем, хотя и не обязательное. Впрочем, понять до конца эту форму возможно, только написав подобный сонет – свой собственный.
Когда померкнет дней твоих весна,
Цветы убьет мороз преклонных лет,
На кудри снегом ляжет седина
И радостей былых исчезнет след,
Тогда возьми портрет – подарок мой,
Где верным я пером запечатлел
Все, что тебе даровано судьбой,
И то, как мой несчастен был удел.
Мой труд твои бесценные черты
Надежно для потомства сохранит,
Не потускнев, хотя увянешь ты,
И скроет нас кладбищенский гранит.
Бессмертны строки – пусть идут года,
Прекрасной ты пребудешь навсегда!
(Сэмюел Дэниел, перевод С. Сухарева)
Можно было бы утверждать, что этот тип сонета является по существу обычным стихотворением, поскольку строгая внутренняя композиция в нем практически упразднена, а три строфы с разными рифмами придают этой форме свободный, почти повествовательный характер. Но, по-видимому, здесь все индивидуально и зависит от целей и возможностей автора. Разумеется, в «английском» сонете сняты внешние признаки классической трехчастной композиции «теза+антитеза+синтез», – но зато в нем присутствует двухчастная композиция «теза+синтез». Помимо этого, с классическим сонетом его роднит сжатость (все те же 14 строк) и непременное наличие анализа, пусть даже в форме двустишия-заключения с афористическим характером. И, наконец, он обладает специфическим признаком сонета – чеканностью и незаменимостью каждой отдельной строки: ибо и к нему, как и к обычному сонету, нельзя прибавить ни слова, и убавить от него тоже ничего нельзя. Из сонета слова не выкинешь.
К «шекспировскому» сонету примыкает еще один сонетный тип, также появившийся в Англии, – «спенсеров» сонет, названный так по имени его изобретателя, английского поэта середины XVI столетия Эдмунда Спенсера. В «спенсеровом» сонете примечательная особенность формы состоит в характерном перетекании рифм из одной строфы в другую:
Все восхваляют красоту твою,
И знаешь ты сама, что ты прекрасна,
Но я один твой светлый ум пою
И дух твой, добродетельный и ясный.
Стирает время дланью беспристрастной
Прекраснейшую из земных красот,
Но в красоте души оно не властно,
Не страшен ей времен круговорот.
Она – порука, что ведешь ты род
От духа той гармонии нетленной,
Чья красота извечно предстает
Во всем, что истинно и совершенно.
Прекрасны духа этого творенья,
Все остальное – только дым и тленье.
(Перевод Е. Дунаевской)
Однако в сущности, если не считать изящной игры рифм, восходящей к раннесредневековой куртуазной поэзии, данная разновидность мало чем отличается от стандартного «шекспировского» сонета. Необходимо добавить, что подобная игра легко представима и в классическом сонете, и при этом отнюдь не помешает его строгой внутренней архитектонике.
Тип сонета с тавтологическими рифмами не позволяет судить однозначно о том, полноценный ли это сонет или подмена, – такую схему может иметь и подлинный, и псевдосонет, ибо и этот последний может быть построен по самому строгому формальному образцу. Поэтому форма сама по себе не дает права выносить произведению окончательный вердикт. Скорее наоборот: форма сонета с тавтологическими рифмами, а также близкая к ней форма сонета на двух рифмах, нередко свидетельствуют о высоком мастерстве их автора.
Горю, от пламени не тает лед,
И льдом я погасить не в силах пламень.
Льду мертвому живой враждебен пламень,
Весь пламень я живой, и мертвый лед.
На полюсе не холоден столь лед,
Не столь в небесной сфере жарок пламень.
Так я скорблю, что сердце больше пламень
Не опалит, не заморозит лед.
Ты, в мертвый дух вселяющая жизнь!
Зачем, живой, сражен стрелой я смерти,
И мертвому зачем сулишь ты жизнь?
(Ф. де Эррера, перевод М. Талова)
Подобным же образом, как нам представляется, все так называемые «варианты» сонетной формы, – центонен-сонет, «опрокинутый» сонет, «безголовый» сонет, «хвостатый» сонет и другие, – лишь с большой натяжкой могут именоваться полноценными образцами сонета, чаще всего являясь по сути стандартными четырнадцатистрочниками. Впрочем, и здесь, как и в других случаях, многое зависит от мастерства сочинителя.
О ВНЕШНЕМ ВИДЕ СОНЕТА
Существуют различные виды внешнего оформления сонетов. Так, в отечественной традиции от самых ее истоков, т.е. от сонетов Тредиаковского и Сумарокова, укоренился тип стихотворения, разбитого на четыре отдельные строфы, как это было принято в современной им французской литературе, и в частности – у поэтов Плеяды. Однако это далеко не единственная из существующих традиций графического представления сонетной формы. Среди тех же русских сонетов можно подчас встретить сплошные стихотворные массивы из четырнадцати строк, без отступа на первой строке. Если же обратиться к европейской традиции сонетного искусства, то здесь мы встретимся еще с одним распространенным принципом внешнего построения сонета, не получившим распространения в нашей поэзии, – с системой отступов и выступов левой грани стихотворного текста, соответствующих в сонете стихам с мужскими и женскими клаузулами, как это имеет место, к примеру, в сонетах Джона Китса:
Тому, кто жил в неволе городской,
Дороже нет улыбки небосклона:
Он рад шептать молитву упоенно
В лицо открытой выси голубой.
Какое счастье – знойною порой,
Укрывшися в волнах травы зеленой,
Перечитать легко и просветленно
Быль о любви, застенчиво-простой!
И, возвращаясь на ночлег долиной,
К плывущей тучке устремив глаза,
Прислушиваясь к трели соловьиной,
Грустить, что промелькнула дня краса,
Как ангелом пролитая, по сини
Безмолвно проскользнувшая слеза.
(Перевод С. Сухарева)
Интервал, имеющийся в приведенном примере между октавой и секстетом, отнюдь не является чем-то обязательным: так, в сонетах немецкой барочной традиции он, как правило, отсутствует. Традиция же представления формы сонета, а точнее – конфигурации его левой грани, и здесь ставится в зависимость от альтернанса рифм, как это можно видеть по следующим двум образцам поэзии Андреаса Грифиуса в переводе автора настоящего эссе:
На Благовещение. Лк. 1.
Ликуй, в чьем сердце страх! Воспой, кто полон боли!
Трикрат Великий Бог исполнил клятву днесь,
И ангел передал Марии Божью весть, –
Тот ангел, что сердца застывшие уж боле
Не прогоняет прочь из рая. То, что волей
Утратила давно Праматерь, – ныне здесь
Вернула Дева вновь, и мрак греховный весь
Нам Солнцем милости рассеян в скорбной доле.
Из гордости хотел обожиться Адам;
Вочеловечившись, Сам Бог стал равен нам,
Смирен, и полн любви, и одарен премного.
О Дева, милости и святости полна!
О Цвет, в последние расцветший времена!
Сколь низкое Тобой возвышено от Бога!
На второй день Пасхи. Лк. 14.
В той же немецкой поэтической традиции эпохи барокко было в ходу множество различных типов графического представления сонета: либо, при отсутствии разбивки на отдельные строфы, последние, тем не менее, отмечались тремя отступами в соответствующих начальных стихах, за исключением первой строфы, в которой отступ не ставился; либо все это сопровождалось сплошной разбивкой стихотворения на строфы; либо отступы ставились во всех случаях, с той же разбивкой текста на четыре части; либо сонет набирался сплошным массивом, с четырьмя отступами или вовсе без отступов, и т.д. В качестве иллюстрации процитируем еще один сонет Микеланджело, внешний облик которого, вопреки формальному решению его переводчика А. Эфроса, приведен нами в соответствие с итальянским оригиналом:
Уж дни мои теченье донесло
В худой ладье, сквозь непогоды моря,
В ту гавань, где свой груз добра и горя
Сдает к подсчету каждое весло.
В тираны, в боги вымысел дало
Искусство мне, – и я внимал, не споря;
А ныне познаю, что он, позоря
Мои дела, лишь сеет в людях зло.
И жалки мне любовных дум волненья:
Две смерти, близясь, леденят мне кровь, –
Одна уж тут, другую должен ждать я;
Ни кисти, ни резцу не дать забвенья
Душе, молящей за себя Любовь,
Нам со креста простершую объятья.
Возможно также, что в целом ряде случаев способы графического представления сонетов в печатных изданиях прошлых веков вообще определялись не волей авторов, а желанием, вкусом или произволом издателей, которые, как правило, крайне редко прислушивались к мнению поэтов о том, как должны были бы выглядеть в печати их произведения.
Формальная изощренность сонета вызвала к жизни близкую к поэме циклическую форму, в которой отдельные сонеты играют роль строф, а всего этих строф – пятнадцать. При этом каждый сонет, считая со второго, начинается с последнего стиха своего предшественника и заканчивается, в свою очередь, стихом, с которого начнется следущий за ним, и все они затем суммируются в заключительном, пятнадцатом сонете, составленном из первых и последних стихов всех прежде прошедших строф. Он именуется магистралом и пишется первым, и из него в дальнейшем последовательно берутся строки для всех остальных.
По поводу этой формы можно заметить, что, учитывая постоянную тенденцию сонета к «сползанию» в четырнадцатистрочник, порой бывает трудно представить себе полтора десятка полноценных сонетов, связанных в единую цепь. Не исключено, что в целом ряде случаев это будут сплошь подмены, поскольку элемент озарения и находки, без которого подлинный сонет непредставим, могут быть заменены в венке обычной технической виртуозностью. Поэтому иные из сонетных венков выглядят далекими от подлинной поэзии в желаемом смысле этого слова. Но и здесь все зависит исключительно от поэтического уровня творца: у настоящих поэтов и венки выходят настоящими, тогда как у графоманов все обстоит с точностью до наоборот.
При сочинении венка сонетов очень важно подобрать в исходном стихотворении – магистрале – такие рифмы, которые затем смогут многажды (до двух десятков раз) повториться в последующих элементах произведения, включая и неминуемые повторы. Венок сонетов не получится, если в магистрале на конце стихов поставить слова, которым не найти звуковых соответствий в лексиконе русского языка.
О «ЗОЛОТОМ СЕЧЕНИИ» В СОНЕТЕ
Как известно, «золотым сечением» называется определенная композиционная пропорция, присутствующая в том или ином произведении искусства, и прежде всего – в скульптуре и в архитектуре. Сам термин «золотое сечение» был предложен в XVI веке Леонардо да Винчи. Суть этой пропорции в том, что целое так относится к большей части, как большая часть относится к меньшей. Необходимо заметить, что пропорция «золотого сечения» подсмотрена у природы, и прежде всего она отражена в строении человеческого тела, которое считается тем гармоничнее, чем ближе его пропорции к идеалу «золотого сечения». Среди поэтических жанров «золотое сечение» почти идеально воплощено в японском классическом вака (танка), имеющем пять строк и строго предписанное число слогов в них: 5-7-5-7-7, что в сумме дает 31 слог.
Печально гадаю:
В каких чужедальних краях
Под сенью деревьев
Найдут ненадолго приют
Опавших цветов лепестки.
(Сайгё, перевод А. Долина)
Соотношение строк вака между собой: 5:3 = 3:2, т.е. 1,666… и 1,5, что практически идентично (но соотношение количества слогов в танка не пропорционально). В сонете же, состоящем из октавы и секстета, соотношение строк следующее: 14:8 = 8:6, т.е. 1,75 и 1,333… Если судить не слишком строго, то можно приблизительно считать это соотношение пропорцией «золотого сечения», но с небольшим отклонением от условно-средней величины (1,542) в ту и другую сторону.
Таким образом, «золотое сечение», – та божественная пропорция, которую мы находим в макрокосме и микрокосме, в человеке и вселенной, во всем, что создано Богом, – присутствует и в сонете. Не в этом ли секрет его необъяснимой притягательности и редкого долголетия? Ибо сонет существует уже восемь столетий и собирается существовать и далее, спокойно соседствуя с другими поэтическими формами и жанрами, вплоть до верлибра. И более того: в то время как другие средневековые поэтические формы, – рондо, триолет и т.д., – в современной поэтической практике встречаются довольно редко и лишь в виде стихотворных экспериментов, сонет продолжает уверенно завоевывать сердца поэтов в каждом новом поколении. Очевидно, секрет неисчерпаемости сонетного искусства кроется не только в универсальности этой формы для всех времен и традиций, как и для любой тематики, но также и в магии самой формы, – иными словами, в «золотом сечении».
История российского сонета знает своего «Петрарку», хотя и не достигшего такого же совершенства и не стяжавшего бессмертия, как его великий итальянский предшественник, и полностью забытого сегодня. Граф Петр Дмитриевич Бутурлин, потомок старинного аристократического рода, появился на свет 17 марта 1859 года во Флоренции, в собственном доме, который достался ему в наследство от деда, екатерининского вельможи, сенатора и камергера, переселившегося в Италию. Юноша учился в Англии и первые свои стихотворения написал по-английски. В Россию Бутурлин приехал пятнадцати лет от роду и поселился в фамильном имении – селе Таганча Киевской губернии, бывшем владении графов Понятовских. Бутурлин мечтал стать русским поэтом и привить российской поэзии столь любимую им форму сонета. Всю свою недолгую жизнь (он прожил всего 36 лет) Петр Бутурлин сочинял сонеты: и в России, и в родной Флоренции, куда он спустя несколько лет вернулся советником русского посольства, и в Париже, где поэт жил вплоть до 1892 года, и затем снова в Таганче, куда он приехал в конце жизни, чтобы вскоре умереть от туберкулеза легких… Вот один из предсмертных сонетов Петра Бутурлина:
Родился я, мой друг, на родине сонета,
А не в отечестве таинственных былин, –
И серебристый звон веселых мандолин
Мне пел про радости, не про печали света
На первый зов мечты я томно ждал ответа
Не в серой тишине задумчивых равнин, –
Средь зимних роз, у ног классических руин,
Мне светлоокий бог открыл восторг поэта!
Потом. не знаю сам, как стало уж своим
Всё то, что с детских лет я почитал чужим.
Не спрашивай, мой друг! Кто сердце разгадает?
В моей душе крепка давнишняя любовь,
Как лавры той страны, она не увядает,
Но. прадедов во мне заговорила кровь.
…Итак – сонет! При несравненной, поразительно совершенной форме в нем налицо и совершенное содержание, и это взаимосвязано. Не является ли сонет, в таком случае, не столько прекрасной поэтической игрой, сколько щедрой помощью поэтам, готовым удивительным вместилищем для любого содержания, облегчением поэтической задачи вдвое.
Древние японцы считали, что их классическое пятистишие-танка изначально создано богами. То же хотелось бы сказать и о сонете: не верится, что его изобрел смертный человек; хочется думать, что он существовал всегда, как цветы, ручьи, трава, лес и небо, – все, что создано на радость человеку в этом прекрасном мире.