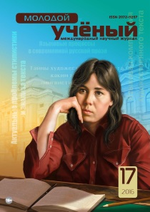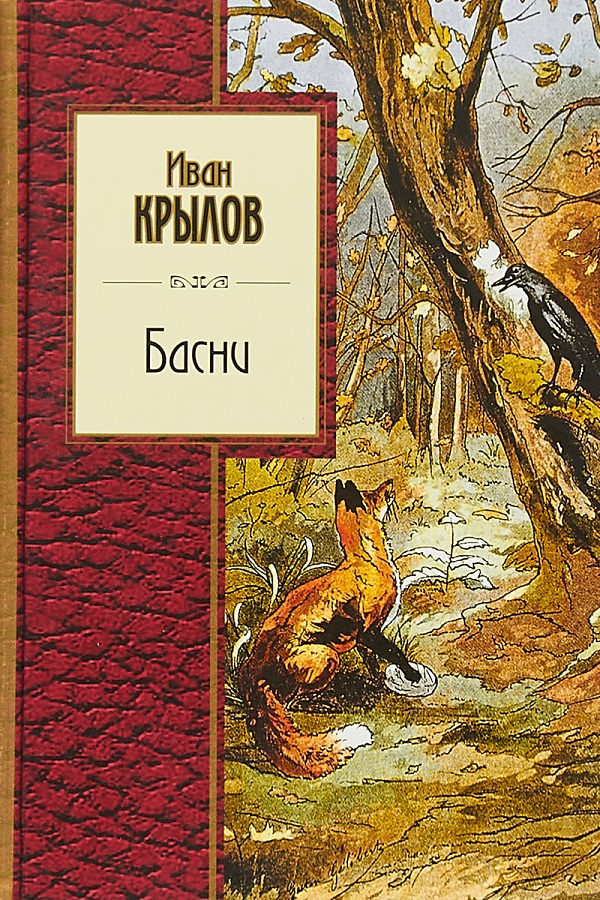в начале xx века взяточничество яростно разоблачалось в таком произведении как
Отражение явления коррупции в русской художественной литературе
Дата публикации: 14.09.2016 2016-09-14
Статья просмотрена: 15474 раза
Библиографическое описание:
Румянцева, Анна. Отражение явления коррупции в русской художественной литературе / Анна Румянцева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 17.1 (121.1). — С. 116-117. — URL: https://moluch.ru/archive/121/33594/ (дата обращения: 11.11.2021).
«Коррупция – самое большое зло,
потому что это разрушение духовности человека»
Коррупция – одна из наиболее острых проблем современного общества. Нет в нашей жизни ни одного дня, когда бы мы не слышали в СМИ о коррупции в России и борьбе с нею. Являясь очень актуальной в наше время, проблема коррупции тем не менее стара, как мир.
Первые упоминания о ней уходят в глубь веков. Из истории мы знаем, что взяточничество, мздоимство в большей или меньшей степени в России было всегда, начиная с момента становления государства. И боролись с этим злом разными методами – секли кнутом, сажали в темницы, четвертовали, колесовали. Но борьба не давала ожидаемых результатов. В русском языке немало пословиц на эту тему: «Закон что дышло, куда повернёшь, то и вышло», «Полезно, что в карман полезло», «Всяк подьячий любит калач горячий» и мн. др. История русского взяточничества так же богата, как и сама история России, и насчитывает уже много веков. Первый закон о наказании судей за взятку можно найти в Судебнике 1497 г.
Русская литература всегда была зеркалом, отражающим явления общественной жизни. В русской культуре (как в фольклоре, так и в художественных произведениях) тема взяточничества имеет множество выражений. Русский человек, на протяжении своей жизни неоднократно сталкиваясь с беззаконием и мздоимством, непременно сатирически описывал эти явления. Практически ни один русский писатель не обходит эту тему стороной. На этом основан сюжет бессмертного «Ревизора» Н.В. Гоголя. Насколько острой должна быть проблема, чтобы целый ряд писателей, таких, как Гоголь, Салтыков-Щедрин, Чехов, поднимали в своих произведениях тему коррупции?
«Шемякин суд» (отражение явлений взяточничества и лихоимства в фольклоре и древнерусской литературе).
В русском фольклоре с незапамятных времён живёт убеждённость в несправедливом и продажном суде.
Повесть о шемякином суде — произведение демократической литературы XVII в., представляющее собой русскую сатирическую переработку сказочного сюжета о мудрых решениях.
Содержание повести сводится к следующему: жили два брата — богатый и бедный. «Богатый же ссужал много лет бедного, но не мог поправить скудости его». Как-то бедняк попросил у брата лошадь, чтобы привезти из лесу дров. Богатый лошадь дал, но не дал хомута. Бедняк привязал дровни к хвосту лошади, но, въезжая во двор, лошадь зацепилась за ворота и оторвала себе хвост. Богатый увидел искалеченную лошадь, взял брата и отправился в город жаловаться судье Шемяке. По дороге братья заночевали в доме попа. Бедняк, лежа на полатях, с завистью смотрел, как брат его ужинает с попом, упал на колыбель, в которой спал поповский сын, и задавил его насмерть.
Теперь к судье отправились двое истцов — богатый брат и поп. В городе им пришлось идти через мост. Бедняк в отчаянии решил расстаться с жизнью, бросился с моста в ров, но неудачно. Он упал на старика, которого везли мыться в баню, и раздавил его. К судье явились уже три истца. Бедняк, не ведая, как ему быть, взял камень, завернул его в платок и положил в шапку. При разборе каждого дела он исподтишка показывал судье узелок с камнем. Шемяка, рассчитывая, что ответчик сулит ему «узел злата», во всех трех случаях решил дело в его пользу.
Взяв со всех троих истцов деньги, благодаря своему уму и хитрости, бедняк остается в этом споре победителем. Таким образом, мы видим, что проблема взяточничества существует с незапамятных времён, об этом на Руси сочиняли сказки и сатирические повести, а выражение «шемякин суд» стало нарицательным. Оно означает «неправедный, несправедливый суд».
В XVIII веке, в эпоху «фаворитизма», коррупция расцвела как никогда, и её масштабы достигли невиданного размаха. Передовые умы того времени, русские писатели, занимающие честную гражданскую позицию, не могли молчать. Так, русский писатель, поэт и драматург Яков Борисович Княжнин (1742-1791) в стихотворной поэме словами одного из персонажей говорил:
«Бери, большой тут нет науки,
Бери, что можно только взять.
На что ж привешены нам руки,
Как не на то, чтоб брать, брать, брать»?
В XIX веке, в эпоху правления Николая I, впервые проблема коррупции была поднята на государственный уровень и широко обсуждалась. В частности, великий русский писатель Н.В. Гоголь писал, что «…бесчестное дело брать взятки сделалось необходимостью и потребностью даже для таких людей, которые не рождены быть бесчестными». Его бессмертный «Ревизор», выставлявший напоказ примеры взяточничества и воровства,
Вообще, хочется отметить, что тема взяточничества и продажности судей в XIX веке была очень популярной. Этой теме посвящали свои произведения многие писатели (А. С. Грибоедов, М. Е. Салтыков-Щедрин, А. П. Чехов и др.). Таким образом, проанализировав некоторые произведения русских писателей XIX века, можно сделать вывод о том, что проблема коррупции являлась одной из наиболее актуальных проблем своего времени и привлекала пристальное внимание художников.
Таким образом, обратившись к русской литературе XX века и наших дней, мы видим, что проблема коррупции становится актуальной как никогда.
Наша задача – прислушаться к их тревожному голосу, ведь именно от нас зависит будущее страны. Сможем ли мы общими силами разорвать порочный заколдованный круг взяточничества, воровства, злоупотребления своим служебным положением, выйдет ли Россия из тени такого страшного явления, как коррупция?
Вопрос этот – пока чисто риторический и нам есть, над чем задуматься. А закончить хочется словами Андрея Дементьева, поэта, нашего современника:
Вчерашние клерки пробились во власть,
Дремучие неучи стали элитой.
Теперь не властители дум знамениты,
А те, кто Россию сумел обокрасть.
В начале xx века взяточничество яростно разоблачалось в таком произведении как
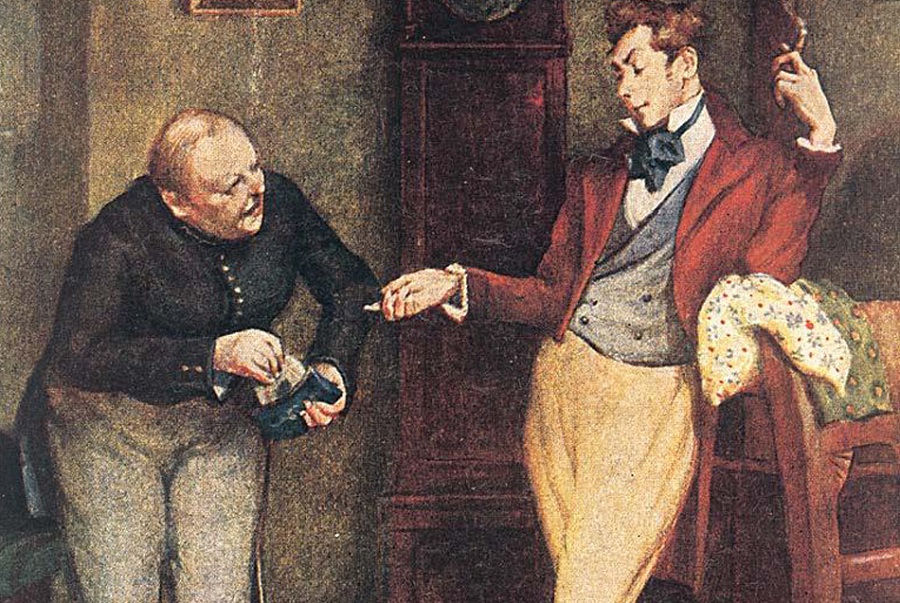



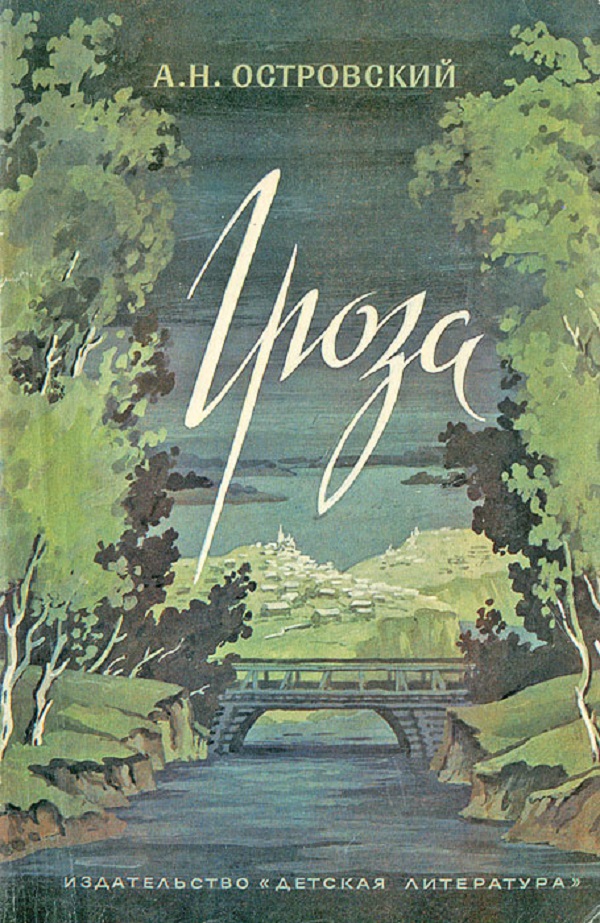
В романе «Гроза» герои наделены мнением о коррупции, что она безобидна и даже в своем роде «полезна». Об этих пороках говорит Кулигин в своем монологе. Из него мы узнаём, что город населён мещанами, чиновниками и купцами. Что в мещанстве нельзя увидеть ничего, кроме «грубости да бедности нагольной». Причина этой бедности тоже названа Кулигиным, который тоже относится к мещанскому сословию: «И никогда нам, сударь, не выбиться из этой коры! Потому что честным трудом никогда не заработать нам больше насущного хлеба». Кулигин осознаёт горькую истину: «у кого деньги, сударь, тот старается бедного закабалить, чтобы на его труды даровые еще больше денег наживать»
Ситуацию с серьезным мошенничеством можно проследить в произведении Н.В. Гоголя «Мертвые души». Там есть прекрасное описание карьеры Чичикова в таможне:
…но переносил все герой наш, переносил сильно, терпеливо переносил, и – перешел наконец в службу по таможне. Надобно сказать, что эта служба давно составляла тайный предмет его помышлений. Он видел, какими щегольскими заграничными вещицами заводились таможенные чиновники, какие фарфоры и батисты пересылали кумушкам, тетушкам и сестрам. Не раз давно уже он говорил со вздохом: «Вот бы куда перебраться: и граница близко, и просвещенные люди, а какими тонкими голландскими рубашками можно обзавестись.
В непродолжительное время не было от него никакого житья контрабандистам. Эта была гроза и отчаяние всего польского жидовства. Честность и неподкупность его были неодолимы, почти неестественны. Он даже не составил себе небольшого капитальца из разных конфискованных товаров и отбираемых кое-каких вещиц, не поступающих в казну во избежание лишней переписки.
В то время образовалось сильное общество контрабандистов обдуманно-правильным образом; на миллионы сулило выгод дерзкое предприятие. Он давно уже имел сведение о нем и даже отказал подосланным подкупить, сказавши сухо:
«Еще не время». Получив же в свое распоряжение все, в ту же минуту дал знать обществу, сказавши: «Теперь пора». Расчет был слишком верен. Тут в один год он мог получить то, чего не выиграл бы в двадцать лет самой ревностной службы. Прежде он не хотел вступать ни в какие сношения с ними, потому что был не более как простой пешкой, стало быть, немного получил бы; но теперь… теперь совсем другое дело: он мог предложить какие угодно условия.
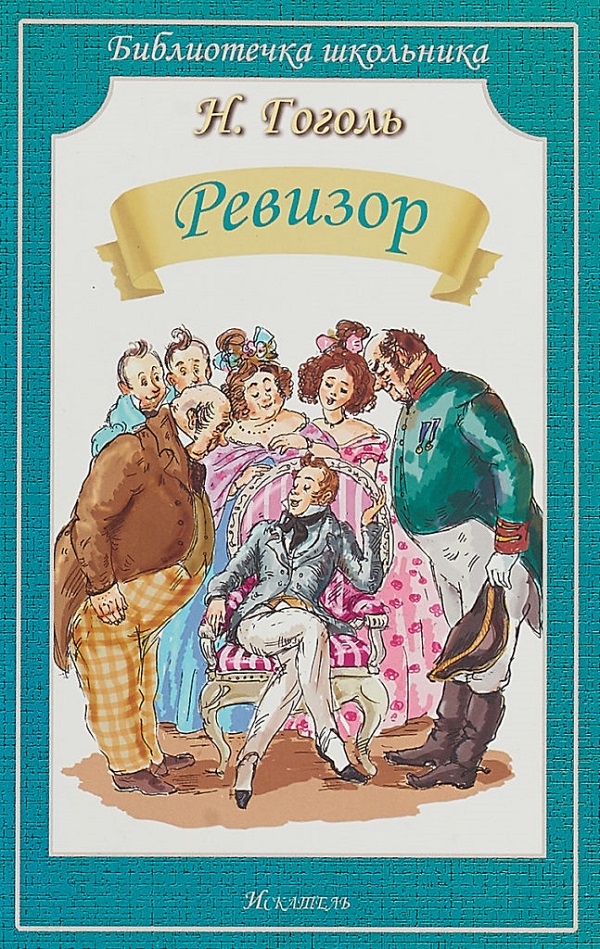
Еще одно произведение Гоголя, высмеивающее пороки нечестных чиновников, это комедия «Ревизор». Городничий, не считающий взятку чем-то далеким от абсолютного благородства, центральная фигура в городе и самая значительная среди остальных чиновников. Именно вокруг него крутится вся жизнь в городе. Городничий неглуп: он более трезво, чем все остальные, судит о причинах приезда к ним ревизора. В отношениях с подчиненными он груб, несдержан, деспотичен. «Что, самоварники, аршинники. », – так любит обращаться городничий к чиновникам низшего ранга. С начальством он ведет себя совсем по-другому. С ним он почтителен, заискивающе предупредителен и предельно вежлив. У городничего своя философская позиция, которой подчинены жизненные принципы. Цель жизни – дослужиться до генерала. Этим и объясняется его отношение и к подчиненным, и к начальству. В этом он соответствует всему бюрократическому аппарату своей эпохи, где лицемерие, ложь, взяточничество стали нормой жизни.
Городничий берет взятки и не считает это чем-то постыдным или неправильным, наоборот, так повелось, что ж тут плохого. Бывают ошибки в жизни человека, так на то он и человек, чтобы ошибаться, – это, по мнению городничего, высшее предопределение: «. нет человека, который бы за собою не имел каких-нибудь грехов. Это уж так самим Богом устроено». Чтобы удержаться подольше в кресле и сделать карьеру, надо все просчеты подать начальству в удобном для него виде, а себе из этого выгоду поиметь. Так было и с церковью: сумму, отпущенную на строительство, — себе в карман, а начальству доложили, что «начала строиться, но сгорела». Для городничего нет ничего нечестного в том, чтобы за взятку освободить кого-то от рекрутчины или чтобы праздновать именины два раза в год. И в том и в другом случае цель одна – обогащение.
Все персонажи, которые Гоголь показал в своей комедии, являются обобщенными образами всей чиновничьей России 30-х годов XIX века, где взяточничество, казнокрадство, доносы считались нормой жизни. Белинский, характеризуя комедию Гоголя, сказал, что чиновничество — это «корпорация разных служебных воров и грабителей».
Ряд произведений русских классиков, обличавших взяточничество и мздоимство многих чиновников, продолжает «Горе от ума» А. С. Грибоедова. Строки из этого бессмертного произведения увековечились в памяти многих поколений, и по сей день какая-либо острая цитата на злобу дня может брать свое начало из этой комедии.
Например, распределение мест и званий. Раболепство, ложь, лесть, подхалимство, взяточничество присущи господам из высшего света. С помощью этих «достоинств» обеспечивалось продвижение по служебной лестнице. Знатное родство также способствовало повышению званий:
При мне служащие чужие очень редки;
Все больше сестрины, свояченицы детки.
Как станешь представлять к крестишку ли, к местечку,
Ну как не порадеть родному человечку!
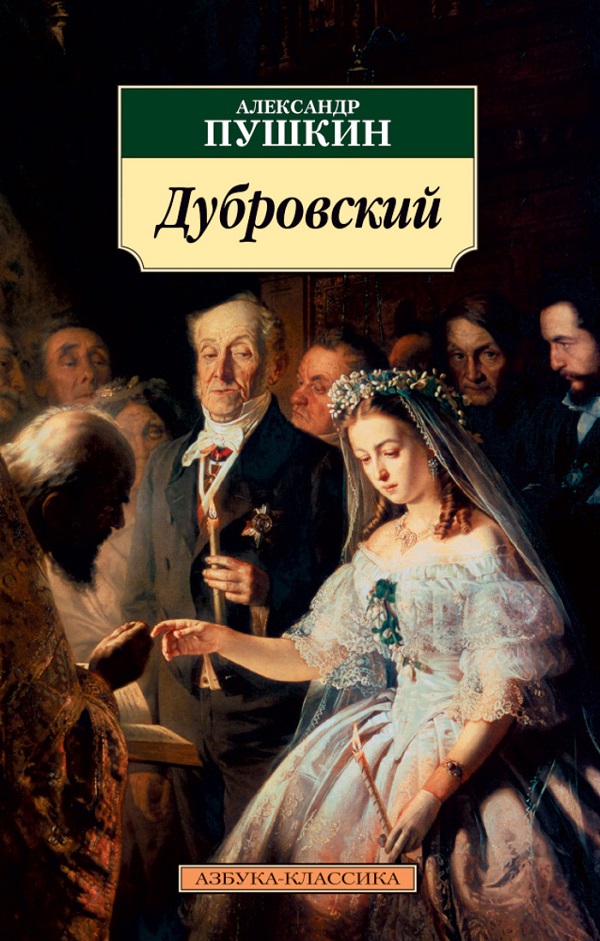
При всем этом он не прирожденный злодей. Он очень долго дружил с отцом Дубровского. Поссорившись с ним на псарне, Троекуров мстит другу со всей силой своего самодурства. Он с помощью взяток отсудил у Дубровских имение, довел бывшего друга до умопомешательства и смерти. Но самодур чувствует, что зашел слишком далеко. Сразу после суда он едет мириться с другом. Но опаздывает: отец Дубровский при смерти, а сын прогоняет его вон.
Яркие художественные образы «переродившихся» советских служащих были созданы В. Маяковским, И. Ильфом и Е. Петровым, М. Зощенко, М. Булгаковым и другими авторами. Имя одного из героев книги И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок» Корейко, скромного служащего ничем не примечательного учреждения и одновременно подпольного миллионера, сколотившего состояние на теневых незаконных махинациях, до сих пор является нарицательным.
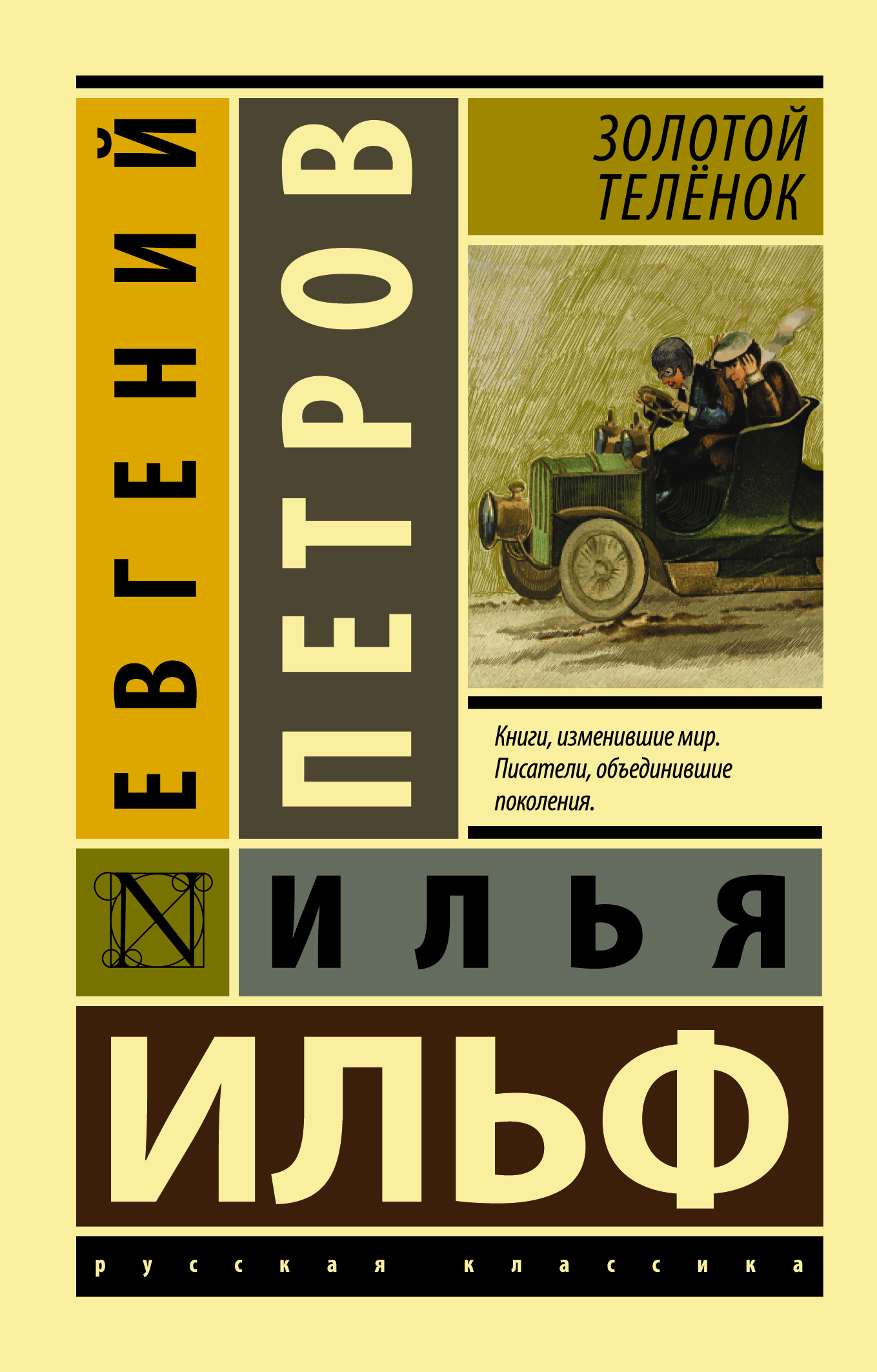
Зощенко делает коррумпированность многих слоев населения заглавной темой своего рассказа «Слабая тара». Там он описывает случай на вокзале: большая очередь к будке для приема груза, где рабочий проверяет вес тары и при необходимости просит укрепить ее. Настает очередь рабочего оптического завода, везущего партию оптики. Оказывается, что у него, как, впрочем, и у всех, «слабая тара». Этот факт очень сильно смутил рабочего, ведь ящики государственные и обратно везти их он не может. Тогда он решает дать взятку, но это тут же пресекают и обругивают, хотя и разрешают подойти к другому рабочему и укрепить, «поскольку это государственные ящики».
Рабочие показали себя с лучшей стороны и с благородством отвергли предлагаемые им деньги. Но дальше раскрывается их истинное обличие. «И, покуда до меня не дошла очередь, я подхожу к рабочему и прошу его на всякий случай укрепить мою сомнительную тару. Он спрашивает с меня восемь рублей. Я говорю:
– Что вы, говорю, обалдели, восемь рублей брать за три гвоздя.
Он мне говорит интимным голосом:
– Это верно, я бы вам и за трояк сделал, но говорит, войдите в мое пиковое положение – мне же надо делиться вот с этим крокодилом.
Тут я начинаю понимать всю механику. »
Пороки чиновников не оставили без внимания поэты и баснописцы. В начале XIX в. великий И.А. Крылов посвятил этой теме басню «Лисица и сурок».
Героиня произведения пребывавшая в курятнике судьей, «выслана за взятки», мчит оттуда во весь опор, но пытается доказать встретившемуся на дороге Сурку, что «терпит напраслину». Сурок верит неохотно, ибо «видывал частенько», что рыльце у Лисы в пушку. Крылов в «Лисе и Сурке» формулирует «мораль сей басни» так:
Как будто рубль последний доживает.
…А смотришь, помаленьку,
То домик выстроит, то купит деревеньку.
Фраза «рыльце в пуху» из этой басни давно стала афоризмом и стала служить ироничным определением действий недобропорядочных чиновников и служащих.
Прогнившее с головы чиновничество упоминает и один из знаменитейших поэтов 20-го века Владимир Маяковский в своем стихотворении «Взяточники»:
Коррупция в России в 1825-1917 годах
Существенно дополнил здесь свою прежнюю статью на эту тему (особенно материалами по времени правления Александра II и Николая II) – так что решил опубликовать ее здесь заново.
Обратите внимание, что контроль за РАСХОДАМИ чиновников и членов их семей был введен в РИ еще в правление Александра II, причём все сведения о расходах и имуществе чиновников и членов их семей публиковались ежегодно в открытой печати, в специальных брошюрах.
НИКОЛАЙ I. 1825-1855
Важным этапом на пути совершенствования законодательства об ответственности за взяточничество и лихоимство было издание Свода Законов (1832, 1842, 1857гг)[1], в котором мздоимству и лихоимству была посвящена глава 6 раздела 5 тома 15. Статья 336 содержала перечень видов лихоимства. Таковых было три:
1) незаконные поборы под видом государственных податей;
2) вымогательство вещами, деньгами или припасами;
3) взятки с просителей по делам исполнительным и судебным.
Таким образом, Свод Законов трактовал взяточничество как составную часть лихоимства. Под взятками здесь понимались всякого рода подарки, которые делались чиновникам для ослабления силы закона. При назначении наказания лицам, уличенным в лихоимстве, применялись три основных правила[2]:
1) не смотреть ни на чины и достоинства, ни на прежние заслуги;
2) если обвиняемый докажет, что взятки были приняты на его имя без его ведома, то наказывать того, кто принял взятку;
3) учитывать степень преступления и происшедшие от того последствия.
С 1845 г. основным законодательным актом, регулировавшим ответственность чиновников за мздоимство и лихоимство, стало «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных». Однако при этом законодательное определение этих понятий отсутствовало. Если действие, за которое получен дар, не составляло нарушения обязанностей службы, то получение вознаграждения являлось мздоимством, если же обязанности службы были нарушены – лихоимством. По Уложению, чиновник, уличенный в мздоимстве, подвергался либо только денежному взысканию, либо денежному взысканию, сопряженному с отрешением от должности. За лихоимство законодатель установил более суровые санкции, чем за мздоимство, вплоть до отдачи в исправительные арестантские отделения. Высшей степенью лихоимства законодателем было названо вымогательство (Статья 377 Уложения). Виновный в вымогательстве подвергался либо отдаче в исправительные арестантские отделения, с лишением всех особенных прав и преимуществ, либо к лишению всех особенных, лично и по состоянию присвоенных, прав и преимуществ и отдаче в исправительные арестантские отделения на срок от 5 до 6 лет. При наличии отягчающих вину обстоятельств, виновный приговаривался к лишению всех прав состояния и ссылке на каторжные работы на срок от 6 до 8 лет[3].
АЛЕКСАНДР II. 1855-1881
В общей сложности к 1857 году чиновников было около 86 000 человек[4]. Из чиновников низших классов (от XIV до VIII) в те годы привлекалось палатами уголовного суда ежегодно около 4000; чины VIII-V классов судились в Сенате, примерно по 700 человек в год; чиновники высших чинов Табели о рангах попадали под следствие в единичных случаях. Таким образом, в общей сложности около 5-6% чиновников ежегодно попадали под различные расследования уголовных палат и Сената. Однако, по обвинениям в мздоимстве и лихоимстве проходило гораздо меньшее число. Если в 1847 г. число чиновников государственной службы, судимых в палатах Уголовного суда за мздоимство и лихоимство, составляло 220 чел., то в 1883г. эта цифра составляла 303 чел. (а к 1913 г. достигла 1 071 чел.). Тем не менее, власти всегда понимали, что попадают под суд за взяточничество далеко не все, и искали пути для профилактики и уменьшения этой язвы[3][4][5].
КОНТРОЛЬ ЗА РАСХОДАМИ ЧИНОВНИКОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
Важным фактором борьбы с «воровством» на государственной службе стала начавшаяся в правление Александра II система публикации имущественного положения чиновников империи. Периодически, как правило – раз в год, выходили книги, которые так и назывались: «Список гражданским чинам такого-то ведомства». В этих книгах, доступных для широкой публики, были приведены сведения о службе чиновника, его наградах, поощрениях и что, не менее важно – взысканиях, а также о размере получаемого им жалования и наличии имущества. Причем, имущество указывалось не только личное, но и «состоящее за женой», как наследственное, так и приобретенное. Имея на руках такой «Список», каждый мог сравнить декларируемое положение чиновника и реальное.
Уличённый в коррупции чиновник не только увольнялся со службы и привлекался к суду, но, если он был дворянином, то и он, и его дети впредь не могли претендовать на место на государственной службе. Не удивительно поэтому, что некоторые чиновники, которым грозил суд за лихоимство, предпочитали застрелиться до суда.
Все три редакции (1845, 1866 и затем 1885 гг) Уложения о наказаниях уголовных и исправительных оговаривали возможность получения взятки должностным лицом и через других, в том числе жену, детей, родственников, знакомых; признавали преступление оконченным, «когда деньги или вещи были еще не отданы, а только обещаны ему, по изъявленному им на то желанию или согласию»; предусматривали некоторые завуалированные способы получения взятки — «под предлогом проигрыша, продажи, мены или другой какой-либо мнимо законной и благовидной сделки». Чиновникам запрещались всякие сделки с лицами, вступающими в подряды и поставки по тому ведомству, где они служат, потому что предполагалось, что эта сделка или договор только прикрывает собою взятку, данную для того, чтобы чиновник незаконно благоприятствовал подрядчику при сдаче вещей или работе в ущерб казне. За совершение таких сделок обе стороны подвергались взысканию, равному цене заключенной сделки, а чиновник к тому же исключался из службы (ст. 485 и другие статьи отделения VI главы XI Уложения о наказаниях)[6].
АЛЕКСАНДР III. 1881-1894
22 апреля 1881 года был учрежден Комитет для выработки проекта уголовного Уложения. Одним из дискуссионных в 1893 стал вопрос об ответственности за взяточничество (лихоимство). В проекте Редакционной комиссии ответственность за принятие взятки, данной с целью побуждения к совершению преступного деяния посредством злоупотребления служебными полномочиями или к учинению служебной провинности (ст. 35), устанавливалась равной ответственности за принятие взятки, если она была дана уже за учиненные, в интересах лиходателя, посредством злоупотребления служебными полномочиями преступные деяния или служебную провинность (ст.36), а именно: заключение в тюрьму на срок не ниже шести месяцев[3].. Полностью Уголовное уложение вступило в силу при Николае II.
При Александре Третьем были введены запреты для чиновников, которых ранее не существовало: запрет на участие в правлениях частных акционерных обществ, запрет на получение комиссии (лично чиновником) при размещении государственного займа и другие. Имеются соответствующие примеры. Так, сотрудник министерства финансов И. Ф. Цион был уволен министром Вышнеградским за то, что получил комиссию в 200 тысяч руб. от иностранных банкиров при размещении очередного государственного займа. А. А. Абаза был уволен императором за то, что располагая инсайдерской информацией о намерении государства понизить курс рубля, пустился в массированные спекуляции, на которых нажил 900 тысяч руб. Министр путей сообщения А. К. Кривошеин вскоре после своего назначения был уличен в попытке брать взятки при заключении государственных контрактов, в продаже леса из своих имений государству по завышенным ценам и в других злоупотреблениях, после чего был уволен со своего поста. В дальнейшем коррупция среди высших чиновников империи значительно уменьшилась, и к 1917 году практически отсутствовала (см. ниже о результатах расследования Временного правительства в 1917 году)
НИКОЛАЙ II. 1894-1917
В 1903 году было введено Уголовное уложение, которое в части борьбы с коррупцией было гораздо более проработано, чем действовавшее до этого Уложение о наказаниях. Уголовное уложение, в частности, разделило понятия «взяточничество» и «лихоимство». После 1903 года в России, как и во всем мире, имел место рост коррупции (в России, в отличие от Европы и США — только низовой коррупции, высшие чиновники в России взяток по прежнему не брали). Сведения о количестве чиновников и канцелярских служащих в конце XIX — начале XX века в целом по России разнятся в разных источниках, причем разброс в предполагаемых цифрах весьма велик, от 200 до 550 тысяч. Есть точные данные статистики по отдельным городам и губерниям (по справочникам о гильдейских и промысловых свидетельствах): так, в 1913г в Санкт-Петербурге и в Москве было по 42 000 чиновников (около 3-4% городского населения), в Одессе — 3000 (менее 1%). Но даже если ориентироваться на верхнюю планку в целом, то Российская Империя по бюрократизации в пятерке самых развитых стран мира (куда РИ уже входила в начале XX века) была явным аутсайдером[8](с. 203). По подсчетам Б. Н. Миронова, в 1910 году на каждого служащего, занятого в государственном и общественном управлении, приходилось: в России — 270 человек, в Англии — 137, США — 88, Германии — 79 и Франции — 57 человек, или, в пересчете на тысячу жителей: в России – 3.7 (занятых только в гос. управлении, т.е. гос. Чиновников — 1.63 [9]), в Англии – 7.3, США – 11.3, Германии – 12.6, Франции – 17.5.[10][8](с. 203)
Рост взяточничества с начала XX века в России (как и в других странах первой пятерки) имел место в связи как с ростом числа чиновников, так и с поставками и военными заказами, сделками с недвижимостью, основанием новых кооперативных обществ, получением для эксплуатации земельных участков с полезными ископаемыми и другими сделками в начале XX века. В России – особенно в период русско-японской, а затем и первой мировой войны, рост коррупции вызвал необходимость как усиления ответственности за по лучение взяток, так и отказа от ненаказуемости за взяткодательство[7]. Царское правительство быстро отреагировало на всплеск коррупции в самом начале Русско-Японской войны и ужесточило отношение к ней; предпринимались все новые попытки к пресечению мздоимства и лихоимства. Об этом свидетельствует, в частности, и тот факт, что на лиц, их совершивших, не были распространены милости (амнистия), даруемые Всемилостивейшим Манифестом от 11 августа 1904 года. В частности, им не могли быть уменьшены назначенные судом сроки заключения на две трети (как многим другим осужденным по уголовным статьям), они не могли быть освобождены от суда и наказания в случаях, если против них было возбуждено преследование или последовало решение суда или решение еще не приведено в исполнение до 11 августа 1904 г., и др.[3]..
14 апреля 1911 г. министр юстиции И. Г. Щегловитов внес в Государственную думу развернутый законопроект «О наказуемости лиходательства». Дача взятки рассматривалась в этом проекте как самостоятельное преступление, нарушающее принцип безвомездности служебных действий, предлагалось объявить ее наказуемой независимо от будущей деятельности взяткополучателя. Лиходательство же в качестве платы за прошлую деятельность должностного лица предлагалось считать преступным лишь при неисполнении им служебной обязанности или злоупотреблении властью. Однако данный законопроект рассмотрен не был — вероятно потому, что Николай II понимал, что это может затруднить борьбу с коррупцией[6].
Закон от 31 января 1916 г., принятый в порядке чрезвычайного законодательства, существенно повышал наказание за мздоимство и лихоимство, в частности, в случаях, когда они были учинены по делам, касающимся снабжения армии и флота боевыми, продовольственными и иными припасами, пополнения личного состава и вообще обороны государства, а также железнодорожной службы. Эти же обстоятельства усиливали ответственность и за лиходательство, которое объявлялось безусловно наказуемым. Предусматривалась ответственность за лиходательство-подкуп за выполнение или невыполнение служебного действия без нарушения должностным лицом установленных законом обязанностей, а также за лиходательство-подкуп и лиходательство-вознаграждение за действие или бездействие должностного лица, связанные с злоупотреблением властью. Наказывалось и лиходательство-подкуп члена сословного или общественного собрания и лица, внесенного в список на определенную сессию суда, а равно вошедшего в состав комплекта присяжного заседателя. Обстоятельством, квалифицирующим лиходательство, признавалось учинение его шайкой. Полное название этого пакета законов от 31 января 1916 года было таково: «О наказуемости лиходательства, об усилении наказаний за мздоимство и лихоимство, а также об установлении наказаний за промедление в исполнении договора или поручения правительства о заготовлении средств нападения или защиты от неприятеля и о поставке предметов довольствия для действующих армии и флота»[6]
Ужесточение борьбы с коррупцией в 1915-1916 гг. и, в частности, отмена ненаказуемости лиходательства в 1916 г. были обусловлены тем, что русская контрразведка и тайная полиция выявила крупную коррупцию во влиятельнейшем Земгоре и военно-промышленных комитетах (руководимых Гучковым), которые (Земгор и ВПК) уже в 1915 г. занимались не только своими прямыми делами всесторонней помощи и снабжения армии, но и превратились в отлаженную и отлично мобилизованную оппозиционную политическую организацию [11].
Кстати, заметим, что на состоявшемся в 1913 году в Швейцарии Международном съезде криминалистов русская сыскная полиция была признана лучшей в мире по раскрываемости преступлений.
И даже близость к вершинам власти, и прошлые заслуги, и работа на немалых должностях в тайной полиции – все это до 1917 г. не давало гарантию от расследования, суда и тюрьмы. В конце 1916 — начале 1917гг газеты широко освещали крупный коррупционный скандал: т.н. дело Манусевича-Мануйлова, дружившего с Распутиным. [13]. В 1915 г. И.Ф. Манасевич-Мануйлов был личным информатором товарища министра внутренних дел С.П.Белецкого, осведомителем следственной комиссии генерала Н.С. Батюшина и одним из близких к Распутину людей. В конце того же года был причислен к Министерству внутренних дел, а после назначения в январе 1916 г. Б.В. Штюрмера Председателем Совета министров откомандирован в его распоряжение. Карьера его дала трещину после отставки Штюрмера (который планировал назначить Манасевича-Мануйлова заведующим Заграничной агентурой Департамента полиции). Но вместо Парижа осенью 1916 года Иван Федорович попал в тюрьму. Петроградским окружным судом 13-18 февраля 1917 г. по обвинению в шантаже товарища директора Московского соединенного банка И. Хвостова Манасевич был признан виновным в мошенничестве и приговорен к лишению всех особых прав и преимуществ и к заключению на 1,5 года, – но уже 27 февраля 1917 г. был в числе прочих заключенных освобожден «революционерами Февраля» из Литовского замка.[14]
Единственным случаем, когда попавший под следствие коррупционер был защищен из личных (по одной из версий) интересов Царской семьи (Александры Феодоровны) было дело банкира Д.Л.Рубинштейна.[15]: он занимался финансовыми махинациями, пытаясь использовать свою близость к Г. Е. Распутину. Знакомство их длилось всего несколько месяцев, и в феврале или в марте 1916г Распутин запретил принимать Рубинштейна, после чего (10 июля1916г.) Д.Рубинштейн был арестован по подозрению в пособничестве неприятелю и выслан в Псков. Его деятельность стала предметом расследования специально созданной для этого комиссии генерала Н. С. Батюшина. Рубинштейну инкриминировались: продажа русских процентных ценных бумаг, находившихся в Германии, через нейтральные страны во Францию; продажа акций общества «Якорь» германским предпринимателям; взимание высоких комиссионных за сделки по русским заказам, выполнявшимся за границей, и пр. – неизвестно, что из этих обвинений было доказано следствием. По утверждению генерал-лейтенанта П. Г. Курлова, Рубинштейн вообще просидел пять месяцев в тюрьме «без всяких оснований»[16]. В сентябре 1916г Александра Фёдоровна настаивала на ссылке Рубинштейна в Сибирь; – и только позднее императрица ходатайствовала перед супругом о смягчении участи Рубинштейна — ввиду его тяжёлой болезни.[17]. По настоянию Александры Федоровны он освобожден 6 декабря.1916 года. По одной из версий, ее заступничество объяснялось тем, что через Рубинштейна она тайно передавала в Германию деньги своим обнищавшим немецким родственникам[18](с.395-396), которые были лишены Вильгельмом II с начала войны всех источников дохода. Версия передачи Александрой Феодоровной денег немецким родственникам осталась недоказанной ни Чрезвычайной следственной комиссией Временного правительства, ни впоследствии большевиками[19]. По некоторым сведениям, после Октябрьской революции Рубинштейн перебрался в Стокгольм и стал финансовым агентом большевиков. В 1922 году Рубинштейн проходил в делах немецкой полиции, которая зарегистрировала его контакты с большевистской делегацией в Германии. Причём его имя проходило рядом с именем бывшего заводчика А. И. Путилова и большевика Л. Б. Красина [20].
Современные исследователи А.Г. Звягинцев и Ю.Г. Орлов, изучив и описав биографии всех генерал-прокуроров Российской империи в период от создания этой должности (в 1722 г.) до февраля 1917 года, нашли только одного (из более чем тридцати) на этом посту, подверженного коррупции. Один корыстолюбивый чиновник во главе ведомства, отвечающего за законность империи, за без малого двести лет! [24][25].
Итоговые данные по росту главного рассадника коррупции, чиновничества, в Российской Империи таковы: на 1 000 жителей страны чиновников было: в конце XVII века – 0,39; XVIII – 0,57; в 1857 году – 2; в 1880 – 1,4; в 1897 – 1,24; в 1913 – 1,63 [9].
ПРИМЕЧАНИЯ:
В мае (29 мая 2011 — через год с гаком после написания первого текста) я поместил доработанную в этом виде статью в Википедию (в статью ВП «Коррупция в России») – так что не удивляйтесь, если увидите в Википедии эти материалы. Ну а поскольку по Википедии «бродят» иногда внешние «вандалы» (это термин из Правил Википедии), да и среди ее завсегдатаев есть, надо думать, и «Швондеры» и «Шариковы», то не удивляйтесь также, если увидите эти материалы в Википедии в сильно покореженном виде. Впрочем, конечно, в Википедии есть и отличные постоянные авторы – если править статью в Википедии будут они, это можно только приветствовать.