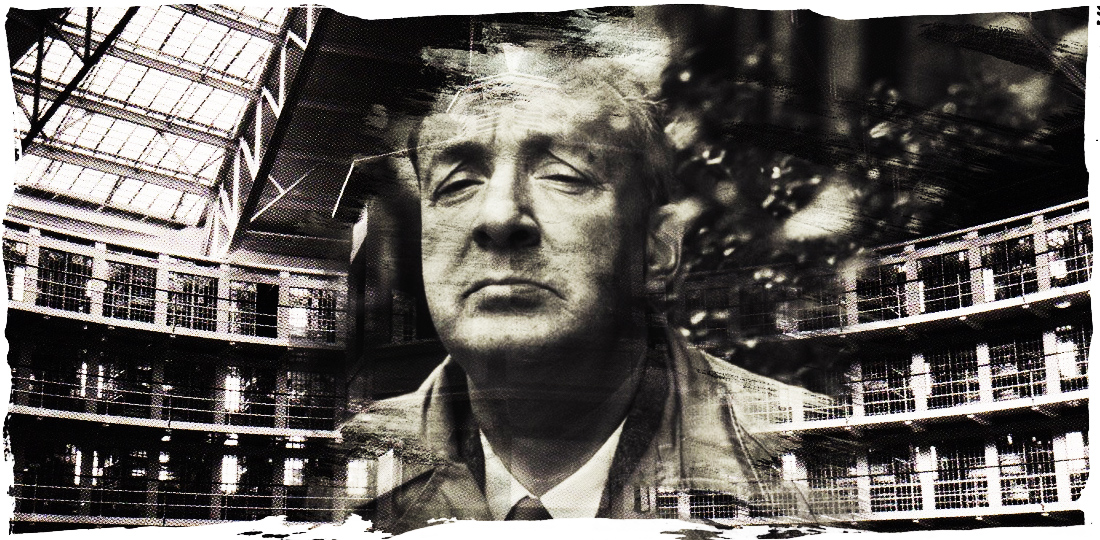гносеологическая гнусность что такое
Гносеологическая гнусность и ментальный паноптикум
РI начинает серию материалов, посвященную теме «консервативного просвещения». Мы исходим из того, что просвещение либеральное столкнулось с непреодолимым для себя вызовом, который в свое время предсказали еще с одной стороны Владимир Соловьев, с другой – Джон Стюарт Милль. Они называли этот вызов «внутренней китайщиной», понимая под ней сведение всего ценностного потенциала Нового времени к технической рациональности, в которой Запад рано или поздно утратит преимущество и в которой рано или поздно возьмет верх цивилизация, способная освободиться от христианских нравственных ограничений. Сегодня это уже не пророчество, это констатация реальности: Запад проигрывает экономическую и в значительной мере и политическую конкуренцию с Китаем и явно рассчитывает на помощь Россию, союз с которой он некогда отверг. Каким в этой ситуации может быть «консервативное просвещение»? Об этом начинает разговор наш постоянный автор, философ Константин Смолий.
Цель философии – объективная истина
Сплошь и рядом под видом глубокой философской истины люди изрекают одну из вариаций на тему «на вкус и цвет товарищей нет». Все мы, мол, разные, о мире судим каждый со своей колокольни, собственную субъективность ставим превыше всего, не имеем никаких общих критериев и мерил, и потому нет ничего объективного в мире людей: всё есть только мнение и ничего не есть истина. Иногда подобные сентенции подкрепляются ссылками на какого-нибудь мыслителя, как будто выражение субъективизма составляет содержательное ядро его мировоззрения, к которому он пришёл путём долгого познания мира.
Между тем непохожесть людей в процессе и результате познания, невозможность приведения их картин мира к единому знаменателю гораздо чаще является не плодом размышления мыслителей – это было бы чрезвычайно банально! – а их исходной точкой. Наличие человеческой субъективности, через призму которой человек судит о мире – это некий самоочевидный факт, который нуждается не в дополнительном обосновании, а, напротив, в установлении пределов его истинности и, быть может, даже в преодолении. Ведь философам органически присуще стремление к объективной, общезначимой истине, и потому они часто ставят перед собой вопрос – а возможно ли вообще объективированное знание о мире, и если да, то на каких основаниях оно должно строиться.
Вот, например, что пишет Сергей Хоружий о Павле Флоренском и его понимании смысла и назначения символов: «Поскольку же мы в символе познаём идею, всеобщее и сущее независимо от нас, они также суть «отверстия, пробитые в нашей субъективности», и для Флоренского в этом – особая их ценность: с юных лет его главная антипатия и страх – перед субъективным вымыслом и иллюзией, перед всем мнящимся, призрачным… Далее, символы служат и межчеловеческому общению: по общесимволистской концепции, смысл творчества и познания – выявление символов и показ их всем, передача в общее достояние».
В этой цитате хорошо виден главный «нерв» многих философских систем: преодоление субъективизма для нахождения чего-то общего, общезначимого, твёрдого, то есть решение проблемы интерсубъективности.
Но теория символов – не единственный способ решения этой проблемы, предложенный в истории философии. Можно привести пример Иммануила Канта, ставившего перед собой задачу обоснования возможности всеобщего объективного знания. При этом существование такого знания – это несомненный факт, вопрос только в том, за счёт каких гносеологических механизмов оно становится возможным. Глубокий анализ познавательного процесса привёл кёнигсбергского мыслителя к обнаружению априорных форм чувственности и рассудка – категорий, или понятий предельной степени общности. Априорные формы чувственности – пространство и время – организуют и оформляют поток случайных, бессистемных и глубоко индивидуализированных восприятий, которые благодаря такому оформлению приобретают всеобщую значимость и могут стать инструментом описания мира – описания, понятного не только тебе самому, но и другому человеку. Априорные формы рассудка – количество, качество, причинность и т.д. – помогают более глубоко организовать материал чувственных впечатлений и продвинуться ещё дальше по пути созидания общезначимого объективного знания, в частности, естественных наук.
Предполагается, что все люди обладают схожим механизмом познания, одинаковым набором априорных форм, а также универсальной способностью к синтетическим априорным суждениям, приращающим наше объективное знание о мире. Поэтому Кант говорит о том, что все люди обладают трансцендентальным единством апперцепции – то есть в основе решения проблемы интерсубъективности у него лежит гносеологический универсализм, позволяющий видеть мир близким, схожим образом. Неслучайно кантовские априорные формы являются в то же время важнейшими понятиями физики Нового времени. Мы как бы «переносим» наши врождённые категории духа на внешний мир, полагая, например, что если мы переживаем некую длительность, то в мире объективно существует время, а если мы способны воспринимать взаиморасположение предметов, то в мире «есть» пространство.
Без такого гипостазирования понятий естественные науки едва ли смогли бы сложиться в известном нам виде: наша субъективность ценна для науки не сама по себе, а благодаря способности порождать объективность путём превращения нашего способа восприятия вещей в реальный способ их существования. А дальше на фундаменте общезначимого знания о мире становится возможным создание социальных связей между людьми и общностей разного порядка.
Наука в борьбе за прозрачность
Именно поэтому про философию Нового времени, одной из высших точек которой стало кантианство, говорят, что гносеология в ней стала на первое место по отношению к онтологии. И Кант тут не был первопроходцем, достаточно вспомнить Декарта с его «мыслю, следовательно, существую»: самосознание мыслящего субъекта и его разумность становятся залогом существования мира и возможности его объективного познания.
Гносеология «порождает» онтологию, то есть способ познания формирует картину мира. Отсюда значимость такой, казалось бы, специальной философской дисциплины, как методология: именно она призвана выявить универсальные принципы адекватного познания реальности при помощи разума, что откроет дорогу к формированию истинной картины мира, против которой никакая субъективность, часто граничащая с прямым заблуждением, не сможет выстоять.
«Есть такие заблуждения, – говорит Кант, – которые нельзя опровергнуть. Надо сообщить заблуждающемуся уму такие знания, которые его просветят. Тогда заблуждения исчезнут сами собою». А избавившись от заблуждений при помощи просвещения, человек разумный сможет и социальную жизнь устроить на разумных основаниях. Так сугубо гносеологическая задача стала магистральной дорогой на пути к построению идеального общества, состоящего из просвещённых людей, объединённых общей картиной мира.
Однако в кантианстве с его частичным агностицизмом, проистекающим из признания непостижимости вещей-в-себе, есть нечто, мешающее всепобеждающему гносеологическому оптимизму. Кант оставляет определённую часть вещи непроницаемой для света разума, и может оказаться, что эта часть и есть главное в вещи. Вся последующая классическая немецкая философия приложила немало усилий к тому, чтобы устранить подобный агностицизм вместе с самой идеей вещи-в-себе. Особенно успешно это сделал Гегель: если в мире, противостоящем разуму, есть нечто, для него недоступное, надо весь мир сделать инобытием разума. И тогда познание мира станет всего лишь познанием разумом самого себя: если всё действительное разумно, значит, всё существующее прозрачно, проницаемо для разумного субъекта. И тогда ничто не помешает признанию такой картины мира общезначимой истиной.
Но наука Нового времени и без гегельянства была преисполнена гносеологическим оптимизмом, не признавая существование никаких непостижимых сущностей вроде вещей-в-себе и других «остатков» метафизики. Более того, наука не желала ограничиваться постижением общезначимых истин о природе, и стремилась распространить свои притязания на социальную и гуманитарную сферу, практически не меняя базовых методологических принципов. Как говорит по этому поводу Морис Мерло-Понти, «когда какая-либо модель оказывается успешной в отношении одного из разрядов проблем, её пробуют повсюду».
Применение к человеку методов естественных наук превратило человека в объект, идентичный множеству других природных объектов. Мышление о человеке стало столь же операциональным и инструментальным, как и постижение пространства и времени, только уже без кантовского трансценденталистского обоснования: оно сделало своё дело, и может уходить. «Классическая наука, – продолжает Мерло-Понти, – сохраняла чувство непрозрачности мира, именно мир она намеревалась постичь с помощью своих конструкций, и именно поэтому считала себя обязанной отыскивать для своих операций трансцендентное или трансцендентальное основание. Сегодня же… совершенно новым стало то, что эта практика конструирования берётся и представляется как нечто автономное, а научное мышление произвольно сводится к изобретаемой им совокупности технических приёмов и процедур фиксации и улавливания». Таким образом, для достижения идеала «прозрачности» мира и человека зрелая наука стала целиком и полностью полагаться на методологию как наиболее инструментальную, техническую часть гносеологии, всегда дающую предсказуемый, повторяемый и функциональный результат.
Итогом применения сциентизированного подхода должно стать получение полного и окончательного знания о человеке, избавленное от любого субъективизма, присущего философской антропологии. В отличие от философов-антропологов, по-прежнему мыслящих о человеке в метафизических категориях, учёные-антропологи положились на методологию естественных наук, уже доказавшую свою эффективность на природных объектах. Стоит ли удивляться, что на определённом этапе эта методология привела буквально к измерению черепов – апофеозу количественного подхода к миру и человеку, уверенно заменяющему в науке качественные описания и умозрительные объяснения.
И разве подобная «математическая» точность знания о человеке не есть воплощение научного идеала Нового времени?
Паноптикум как общественный идеал
И всё-таки для эпохи Модерна и её квинтэссенции – идеологии Просвещения – объективное знание о человеке едва ли было самоцелью. Главное – построение общежития на рациональных, научно обоснованных принципах. Здесь мы вступаем в сферу социального конструктивизма, призванного улучшить всегда такое несовершенное общество, которое, в свою очередь, исправит несовершенство человеческой природы и приведёт разнонаправленные устремления людей к некоему общему знаменателю.
Подобно тому, как задача построения объективного, общезначимого знания решается не игнорированием субъективизма, а его преодолением, так и новое общество будет сконструировано за счёт преодоления субъективизма: каждое индивидуальное стремление к благу будет уравновешено чужими стремлениями, индивидуальные заблуждения уступят место всеобщей истине, и таким вот образом будет достигнуто состояние общественного блага. Кажется странным, почему общество, наполненное эгоистами, всё-таки продолжает существовать, но этот факт для английских просветителей был настолько же бесспорен, как для Канта – факт существования объективного общезначимого знания.
Но, конечно, человек нуждается в правилах общежития, признаваемых всеми. И желательно не допускать нарушения этих правил и последующего наказания: гораздо лучше профилактика, которая заключается в недопущении антисоциального поведения. Если за образ действий отвечает образ мышления, значит, работать нужно над картиной мира каждого человека. Нельзя полагаться на случайное формирование человеческой субъективности, которое неизбежно станет наполнено заблуждениями, приводящими к злу как нарушению общественного согласия. Поэтому естественный и единственный выход – просвещение людей, то есть формирование добропорядочных граждан со схожей системой взглядов и нравственных принципов.
Отсюда важность гносеологии как учения о способах уяснения человеком необходимой информационной программы. Без вскрытия познавательной «механики» достичь инструментализации гносеологии как способа порождения общезначимых онтологий будет невозможно.
Так что Канта можно во многом назвать продолжателем дела английских просветителей, ведь ещё Джон Локк в «Опытах о человеческом разумении» ставит себе задачу исследовать познавательные способности человека на предмет выявления их границ. Но зрелая наука преодолела любой скептицизм и агностицизм философов Нового времени, вещь-в-себе позволила проникнуть свету разума вовнутрь себя, открылась ему и стала вещью-для-нас, включившись в обустроенный человеком мир. А если и сам человек в научном знании такая же «вещь» наряду с другими, то и человека-в-себе быть не может.
Человек – прозрачен и гносеологически проницаем. Он стал человеком-для-нас, то есть для субъекта.
Но кто этот субъект на самом деле? Пока речь идёт о чистом познании, в качестве субъекта может выступать только исследователь. Но когда мы говорим о социальном конструировании и гармонизации общественных отношений за счёт общезначимой онтологии, субъект познания превращается в субъекта власти. В прозрачности человека более всего заинтересована именно власть, и это она всегда готова найти практическое применение знаниям о человеке. И не случайно, что именно в английском Просвещении, ставшим почвой для возникновения утилитаризма, рождается идея паноптикума – такой организации человеческого общежития, при которой каждый его обитатель находится постоянно на виду. Не важно, что речь первоначально шла только о тюрьме: где ещё испытывать модель контроля, как не на людях, уже доказавших свою антисоциальность?
Паноптикум позволяет достичь частичной прозрачности человека – деятельно-механической. Но главная задача – контроль движений не тела, а души: в идеале, прозрачной должна стать не стена камеры, а черепная коробка, и не только преступника. Ведь достаточно всмотреться в само это слово – просвещение, – чтобы увидеть жутковатый образ: просвещённый человек – не просто образованный, знающий и культурный, это человек, которого «лучи света» прошли насквозь и не оставили в спасительной темноте ни одного закоулка души. И тогда всеобщее просвещение становится лишь действенным механизмом лишения человека возможности остаться своего рода вещью-в-себе и для-себя.
Бунт против гносеологии
С этой точки зрения желание человека оставаться непрозрачным для объективирующей гносеологии может расцениваться как бунт, причём бунт социальный. Именно последствия такого бунта описаны Владимиром Набоковым в романе «Приглашение на казнь». Его герой, Цинциннат Ц., с самого детства был словно «вырезан из кубической сажени ночи». Он не пропускал через себя «просвещающих» лучей, а потому «производил диковинное впечатление одинокого тёмного предмета в этом мире прозрачных друг для дружки душ».
Оказавшись в мире воплощённого ментального паноптикума как просвещенческой антиутопии, Цинциннат научился «притворяться сквозистым, для чего прибегал к сложной системе как бы оптических обманов». Чтобы усыпить бдительность вечно подозрительных к нему сограждан, живущих в согласии с верховным принципом антиутопии и друг с другом, он, видимо, умел делать так, чтобы глядящий на него человек видел кого-нибудь другого, знакомого и понятного, или же себя.
Но тактика была успешной лишь до поры до времени: сначала набоковский герой оказался в социальной изоляции, причём даже в собственной семье, а затем предстал и перед инстанцией власти. Не какой-нибудь философ-методолог, а именно управляющий субъект в лице суда охарактеризовал непроницаемость Цинцинната как «гносеологическую гнусность». Этого оказалось достаточно для окончательного исключения из человеческого сообщества – казни. И такой исход романа сам собой ставит вопрос: насколько идеология Просвещения, не желающая оставлять человека непроницаемым и непросвещаемым, соответствует идеалам свободы и независимости личности?
Не есть ли каждая воплощённая в истории антиутопия всего лишь неизбежное следствие присущих эпохе Модерна тоталитарных интенций?
Просветители мечтали освободить человека от Бога, якобы превращающего свободную личность в «раба», но, кажется, на место одного «всевидящего ока» поставили другое, что сидит в центре стеклянной тюрьмы и усыпляет её обитателей лозунгами о свободе, равенстве и братстве.
«Гносеологическая гнусность» Владимира Набокова:
Метафизика и поэтика в романе «Приглашение на казнь»
МЕТАФИЗИКА
Гностицизм — эклектическое религиозное направление, получившее развитие в эпоху позднего эллинизма и раннего христианства. Как подсказывает само название, в основе этого учения лежит мистическое познание, «гносис».
«Гносис, отличный от рационального типа знания, означает знание, само по себе приносящее исцеление и спасение. Гностик может получить его в акте божественного откровения, главным образом через посредника — Спасителя или Посланника. Такой гносис — знание милосердного внекосмического Божества; его эманации; …Царства Света; …и одновременно знание личного божественного независимого духа человека, заключенного [в Тибиле, или Доме Смерти] миром демонов [архонтов] и творцом всего этого создания [демиургом].
Эта основная модель и последовательность этих событий формируют большинство гностических мифов.
На макрокосмическом уровне крепость сама заключена в космическую тюрьму, охраняемую луной. Луна — гностический символ одного из семи архонтов, сторожащего врата планетных сфер. В романе невидимый манипулятор то снимает, то прикрепляет бутафорскую луну к кулисе ночи. Временем в крепости заведует «часовой», отбивающий время вместо нарисованных часов, «почему он так и зовется» (136). И бутафорская луна, и «измалеванные стрелки» отмеряют несовершенное, конечное время, творение Демиурга, который «хотел достичь в своей работе подобия невыразимой вечности Времени и бесконечности Пространства, но создал только несовершенное время и пространство, в котором все материальное было конечно» (D, 330). В коридорах «Дома Смерти» стоят «стражник в песьей маске с марлевой пастью» (27), «солдат с мордой борзой» (207). Эта стража напоминает нам не только опричников, носивших у пояса собачью голову, но также звериные маски стражников планетных сфер, архонтов.
«тюрьма» относится также к человеческой плоти, в которой томится душа гностика. «Зачем вы увлекли меня из обители моей в неволю и бросили меня в смрадном теле?», — сетует душа гностика в тексте «Гинзы» (J, 63). Метафора «тела-тюрьмы» становится очевидной, когда Набоков описывает Цинцинната после купания в лохани: «Самое строение его грудной клетки казалось успехом мимикрии, ибо оно выражало решетчатую сущность его среды, его темницы» (73).
Гностический дуализм духа и плоти (pneuma и hyle) объясняет также двойственность Цинцинната. В этом плотском, покорном узнике живет еще другой, «добавочный Цинциннат» (29), «призрак Цинцинната» (37, 41), мятежный духовный двойник, представляющий «внутреннего человека». По мере развития романа Цинциннат как будто растворяется в пневматической сущности своего внутреннего двойника. Чем больше оживает дух героя, тем меньше проявления его физического я. «Плотская неполнота» (123) Цинцинната делает почти невозможным даже для автора уловить внешний облик своего ускользающего героя, состоящий из «…тысячи едва приметных, пересекающихся мелочей, из светлых очертаний как бы не совсем дорисованных, но мастером из мастеров тронутых губ, из порхающего движения пустых, еще не подтушеванных рук, из разбегающихся и сходящихся вновь лучей в дышащих глазах… но и это все разобранное и рассмотренное, еще не могло истолковать Цинцинната: это было так, словно одной стороной своего существования он неуловимо переходил в другую плоскость…» (123).
Однажды в детстве Цинциннат «выскользнул из бессмысленной жизни» и «прямо с подоконника сошел на пухлый воздух и стоймя застыл среди него» (102). В падении ребенка можно увидеть определенную параллель гностическому мифу о докосмическом падении, в котором часть божественной субстанции (pneuma), падая в мир, облекается телом (hyle). «Докосмическое падение играет важную роль в происхождении мира и существовании человека в большинстве гностических систем» (J, 62). Падение ребенка, не подозревающего о силе земного притяжения, прямо навстречу «старейшему из воспитателей, потному, с мохнатой черной грудью», протянувшего к Цинциннату «в зловещем изумлении мохнатую руку» (102), может рассматриваться как падение из пневматической первоначальной сферы в телесный, материальный мир.
Гностическое противопоставление «пневматического» и «гилического», олицетворенное в герое и антигерое романа (Цинциннате и м-сье Пьере), создает центральную оппозицию «Приглашения на казнь». Полнокровный и дурно пахнущий, с татуировкой на бицепсах и вокруг левого соска палач — действительно редкий обладатель пошлого [320] вкуса во всем: эротике, акробатике, анатомии, гастрономии, эстетике, даже в «блаженстве отправления естественных надобностей» (153). Гностическое знание обязывает гностика избегать загрязнения окружающем физическом мире и свести контакты с ним до минимума. Цинциннат не только избегает физических прикосновений к своему палачу, но и пытается сам отделить свою плотскую часть. Согласно гностическому учению, «душа после смерти восходит наверх, оставляя за собой на каждой сфере… „облачение“, пожертвованное ею: и так дух, сорвав с себя все наросты, достигает Бога за пределами мира и воссоединяется с божественной субстанцией» (J, 45). Для этой цели гностик проделывает ряд ритуальных упражнений, так называемых «разоблачений», в которых душа снимает с себя одну плотскую оболочку за другой. «Горюю и печалюсь я в одеянии-теле, в которое поместили и оставили меня. Как часто должен снимать его, как часто одевать…» (Ginza. J, 56) [321] «Приглашении на казнь» Цинциннат проделывает схожий ритуал, в котором постепенно переходит от метафорического «разоблачения» к конкретному «Развоплощению»:
«— Какое недоразумение! — сказал Цинциннат и вдруг рассмеялся. Он встал, снял халат, ермолку, туфли. Снял полотняные штаны и рубашку. Снял, как парик, голову, снял ключицы, как ремни, снял грудную клетку, как кольчугу. Снял бедра, снял ноги, снял и бросил руки, как рукавицы в угол. То что оставалось от него, постепенно рассеялось, едва окрасив воздух»
через ряд дверей прямиком в столовую директора, где за чайным столом вокруг самовара расположились ее родители и м-сье Пьер. Цинцинната посадили в угол, не предложив ему ничего. Вспомнив слова Набокова-переводчика «Alice in Wonderland», (глава «A Mad Tea-Party»), можно сказать, что «это был самый глупый чай», на котором кто-либо когда-либо присутствовал. В гностических текстах обман и издевательство обычны в тактике духов зла, архонтов. Истинный посланник Бога, провозвестник Утра, предупреждает гностика: «Смотри, весь мир / не стоит ничего / …Смотри, двойные ямы / что вырыла Руха на пути» (Н, 392–393).
Более надежным посланником оказывается мать Цинцинната, Цецилия Ц. Наученный горьким опытом, Цинциннат не сразу поверил в ее подлинность, подозревая, что над ним опять издеваются и «угощают ловкой пародией на мать» (133). Мать повторяет сыну предание о его отце, «безвестном прохожем». Цинциннат спрашивает мать:
«— Неужели он так-таки исчез в темноте ночи, и вы никогда не узнали, ни кто он, ни откуда — это странно…
— Только голос, — лица не видала, — ответила она все так же тихо»
Поскольку гносис — познание непознаваемости Божьей, его содержание выражено с высокой степенью неопределенности. Это познание часто складывается «via negationis» («от противного»). Бог обнаруживается несостоятельностью доводов разума и речей, и само число этих провалов доказывает его существование. Многочисленные topoi inferrabilitatis и повторяющаяся фраза «Я кое-что знаю» относится к способности Цинцинната постичь мистическое знание о Боге, «гносис».
«Да, из области другим заказанной и недоступной, да, я кое-что знаю, да…» (95) «Я кое-что знаю. Я кое-что знаю. Но оно так трудно выразимо! Нет, не могу… хочется бросить, — а вместе с тем — такое чувство, что, кипя, поднимаешься как молоко, что сойдешь с ума от щекотки, если хоть как-нибудь не выразишь» (96).
Вслед за реинтеграцией всей духовной субстанции и ее воссоединением с первоисточником, Богом, наступает эсхатологический момент, ознаменованный уничтожением лишенного пневмы и света материального космоса. «Труды всего Тибила рассыплются, и весь небосвод содрогнется» (Ginza. H, 396). Гностическое пророчество почти буквально сбывается в «Приглашении на казнь». В последних строках романа описан настоящий конец света:
«Мало что оставалось от площади. Помост давно рухнул в облаке красноватой пыли… Все падало. Винтовой вихрь забирал и крутил пыль, тряпки, крашеные щепки, мелкие обломки позолоченного гипса, картонные кирпичи, афиши; летела сухая мгла; и Цинциннат пошел среди пыли, и падших вещей, и трепетавших полотен, направляясь в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему»
Это душа последнего гностика покидает земную жизнь и возвращается к своему небесному отцу, обитающему за пределами материального мира, в который упал герой в начале романа. Цинциннат, подобно блудному сыну, возвращается к своему безвестному и безликому отцу, передавшему сыну божественную искру. Отказом от «Приглашения на казнь» и опровержением смерти кончается роман Набокова. Описав круг, роман возвращается к своей отправной точке, к апокрифическому эпиграфу из несуществующей книги несуществующего автора, с которого начинается:
nous nous crayons mortels».
ПОЭТИКА
«Мои персонажи — галерные рабы», — заявил Набоков о своем деспотизме по отношению к созданным им героям. «Каждый персонаж следует путем, придуманным мною. Я — абсолютный диктатор в моем собственном мире, поскольку я один отвечаю за его прочность и истинность» [328] «кое-как выдуманной камеры», понастроил изощренные лабиринты, приставил к его камере стражников, пригласил жертву на собственную казнь и разыграл перед ней кошмарную пьесу-мистификацию, включающую издевательский «тур вальса». Если мы проведем параллель с гностическим мифом, то писатель играет в романе роль демиурга, а «домом мертвых» окажется сама книга. В самом деле, Цинциннат, заключенный в узилище печатных строк, начинает, подобно истинному гностику, брошенному силами зла в несовершенство бытия, подвергать сомнению не только свою онтологическую сущность, но и правомочность своего создателя.
В гностических мифах роль Посланника Бога, проникающего в земной мир и приносящего спасительное знание гностику, принадлежит неземному существу «извне». В тексте «Гинзы» Посланник Бога рекомендуется любопытным образом, к которому нетрудно подобрать соответствующее поэтическое толкование:
«Я слово, сын слов, пришедшее именем Явара. Великая жизнь… послала меня вперед узреть эту эру, пробудить спящих и поднять дремлющих. Сказано мне: „Иди, выбери следующих тебе в Тибиле… Избери, и выведи избранных из мира“»
Главная характеристика безбожного мира из набоковского романа, если ее перевести с языка теологии на язык поэтики, — полное отсутствие поэтического языка.
«Окружающие понимали друг друга с полуслова, — ибо не было у них таких слов, которые бы кончались как-нибудь неожиданно, на ижицу, что-ли, обращаясь в пращу или птицу, с удивительными последствиями»
«Сохраните эти листы, — не знаю, кого прошу, — но: сохраните эти листы… Я так, так прошу, — последнее желание нельзя не исполнить. Мне необходима хотя бы теоретическая возможность иметь читателя, а то, право, лучше разорвать. Вот это нужно было высказать. Теперь пора собираться»
Последнее слово, «смерть», написанное огрызком карандаша на последнем листке, перечеркнуто. Это — результат причастности к спасительному познанию — гносису, переданному новорожденному поэту «посланником слова», автором, создавшим писателя Цинцинната по своему образу и подобию.
Но Цинциннат только начинающий писатель. «Дрожа над бумагой, догрызаясь до графита» (96) карандаша, Цинциннат ведет упорную борьбу со словом. Целый ряд «topoi inneffabilitatis», о которых я уже писал в связи с неизречимостью гностического Бога, не что иное, как отчаянные попытки Цинцинната овладеть словом и побороть свое косноязычие.
«Не умея писать, но преступным чутьем догадываясь о том, как складывают слова, как должно поступить, чтобы слово обыкновенное оживало, чтобы оно заимствовало у своего соседа его блеск, жар, тень, само отражаясь в нем и его тоже обновляя этим отражением, — так что вся строка — живой перелив; догадываясь о таком соседстве слов, я, однако, добиться его не могу, а это-то мне необходимо для несегодняшней и нетутошней моей задачи. Не тут! Тупое „тут“, подпертое и запертое четою „твердо“, темная тюрьма, в которую заключен неуемно воющий ужас, держит меня и теснит»
Постепенно Цинциннат узнает, что над этим низшим миром и словом существует «оригинал корявой копии» (93), высший мир и слово его автора.
«Там неподражаемой разумностью светится человеческий взгляд; там на воле гуляют умученные тут чудаки; там время складывается по желанию, как узорчатый ковер, складки которого можно так собрать, чтобы соприкоснулись любые два узора на нем… Там, там — оригинал тех садов, где мы тут бродили, скрывались; там все поражает своей чарующей очевидностью, простотой совершенного блага; там все потешает душу, все проникнуто той забавностью, которую знают дети; там сияет то зеркало, от которого иной раз сюда перескочит зайчик…»
«Сказано мною, вы — боги; / И все — сыновья Всевышнего / Но смертны как люди, / И падете, как один из архонтов».
Согласно многим эсхатологическим мифам гностиков, демиург уничтожает свое творение. «Господи, дай мне уничтожить сделанный мною мир», — молит демиург в «Книге Баруха» (J, 64); или «Она (Руха) поднялась, уничтожила свою собственность», в тексте «Гинзы» (Н, 346).
Dieu nous nous croyons mortels.
© Сергей Давыдов, 1991.
Примечания
Давыдов С. «Гносеологическая гнусность» Владимира Набокова // Логос. 1991. № 1. С. 175—184.
Давыдов Сергей Сергеевич—профессор Middlebury College, штат Вермонт, автор книги «Teksty-Matreški» Vladimira Nabokova. Munchen, 1982, сейчас занимается Пушкиным. См. также на русском его статьи: «Пушкинские весы» В. Набокова // Искусство Ленинграда. 1991. №6. C. 39—46; Набоков и Пушкин // Невское время. 1991. 20 июля; Чтоделать с «Даром» Набокова? // Обществ. мысль: Исследования и публикации. М., 1993. Вып. 4. С. 59—75.
[312] Nabokov V. Strong Opinions. New York, 1973. P. 92.
Бицилли П. «Приглашение на казнь» В. Набокова и «Соглядатай» // Современные записки. № 68. Париж, 1939; Варшавский В. Незамеченное поколение. New York, 1956. С. 223.
Ходасевич В. О Сирине // Возрождение. Париж, 1937. 13 февр.
[315] Все цитаты из «Приглашения на казнь», первоначально напечатанного в «Современных записках» (Париж, 1935–1936. № 58–60) приводятся по изданию: Виктор, Париж (без указания года). Номер страницы указан в скобках.
[316] Дж. Мойнэхан в своем предисловии к роману «Приглашение на казнь» (Виктор, Париж) определяет преступление Цинцинната как «гностическое»; Ch. Nicol в статье «The Mirrors of Sebastian Knight» называет романы Набокова «гностическими», см.: Nabokov: The Man and His Work / Ed. L. Dembo (Wisconsin, 1967. P. 85); S. E. Hyman определяет Набокова как «глубоко гностического» писателя в статье «The Handle: „Invitation to a Beheading“ and „Bend Sinister“» //Nabokov: Criticism, Reminiscencesm, etc. P. 71.
— Данзас Ю. Н. (псевд. Юрий Николаев). В поисках за божеством: Очерк из истории гностицизма. СПб., 1913; (Gl) — Gnosticism: A Source Book of Heretical Writings from Early Christian Period / Ed. R. Grant. New York, 1961; (G2) — Grant R. Gnosticism and Early Christianity / 2d ed. New York; London, 1966; (H) — Gnosis: Character and Testimony. Leiden, 1971; (J) — Jonas H. The Gnostic Religion / 2d ed. Boston, 1963.
[318] В гностическом гимне о скитаниях души, известном как «Гимн перла», перл, символ души, стережет змея. См. (Gl, 117).
«Заблудившись в лабиринте зла, / Несчастная [душа] не находит выхода… / Она не может избежать жестокого хаоса, / И не знает, как пройти сквозь него» (Наассенский Псалом, J, 52).
[320] Значение слова «пошлость» Набоков подробно обсуждает и иллюстрирует в своем «Николае Гоголе» (New York, 1961. P. 63–74) Также см. блестящие рассуждения о теме «пошлости» в: Alter R. Invitation to a Beheading: Nabokov and the art of politics // Nabokov: Criticism, Reminiscences… P. 41–59.
[321] «И нечистое, грязное их одеяние сбросил я, и оставил в их стране» (Гимн перла. G1, 120).
«разоблачения» Цинцинната (90).
[324] См. главу «The Unknown Father» (G2).
[325] В соответствии с этим сообщением Цинциннат немедленно изменяет отношение к своей матери, в подлинности которой он «не совсем справедливо» — как Набоков замечает в своем интервью — сомневался. См.: Strong Opinions. P. 76.
Струве Г. Русская литература в изгнании. New York, 1956. P. 287.
[329] Падение ребенка Цинцинната напоминает аналогичный эпизод из жизни поэта В. Ходасевича, которого Набоков считал «величайшим поэтом, рожденным двадцатым веком». В. Ходасевич описывает свое падение из окна в «Младенчестве» (Воздушные пути. 1965. № 4. С. 113–114). Тот же эпизод отражен в его стихотворении «Не матерью…» (Тяжелая лира. Пг., 1922).
«В раю» в его «Poems and Problems» (New York, 1970. P. 45).
[331] Этот автор, «человек еще молодой», возможно, и сам Набоков (он написал этот роман, будучи примерно в возрасте Цинцинната). «Остров в Северном море» напоминает об архипелаге набоковских северных островов: Зоорландии («Подвиг»), Ultima Thule («Ultima Thule» и «Solus Rex») и более поздней Новой Зембли («Pale Fire»). «Придуманные мною миры, мои сферы, мои особые острова — в безопасной недостижимости для взбешенного читателя», — уверяет нас Набоков (Strong Opinions. P. 241). В романе «Pale Fire» поэт, Джои Шейд, воображает себя бессмертным и софистически опровергает аристотелевский силлогизм: «…другие люди умирают; но я — не другой; следовательно, я не умру» (строки 213–214). По поводу этих строк уязвленный автор комментариев, Чарльз Кинбот, замечает в манере Цинцинната: «Это может утешить мальчика. Позднее жизнь объясняет нам, что эти другие и есть мы».
«Горит звезда» (1921) // «Тяжелая лира».
[333] Strong Opinions. P. 52.
[334] Набоков мог познакомиться с переводами гностических текстов во время своего пребывания в Кембридже (1919–1922), Берлине (1922–1937) или Париже (1937–1940). Здесь я привожу только некоторые из наиболее важных изданий, бывших доступными до начала выхода романа в «Современных записках» (Paris, 1935–1936. № 58–60): его же. Echoes from the Gnosis. London, 1906–1908; Его же. ed. and tr. Giessen, 1915; его же перевод: Ginza: Der Schatz oder das Grosse Buch der Mandaer. Gotingen, 1925. Faye de E. Gnostigues et gnosticisme / 2nd ed. Paris, 1925; и русский источник — Данзас Ю. Н.